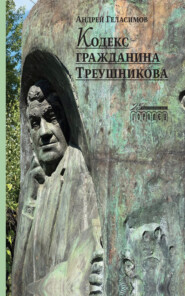По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рахиль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После двадцати пяти лет увядающие и соскальзывающие перестают интересовать. В принципе. Потому что ты сам, в общем-то, увял и скользишь. И там уже все гостеприимно распахнулось.
От этого большой интерес к тем, кто пока играет в основном составе. Скажем, от двадцати до двадцати пяти лет. Крайне допустимый возраст совпадает с твоим педагогическим стажем. Это ничего. Определенные созвучия допустимы. Тем более что при переходе от категории «нежный возраст» к категории «сколько там лет этот старый пень отработал у нас на кафедре?» само созвучие принимает форму метафоры. Вполне, кстати, симпатичной.
А кто бы не махнул свои двадцать пять в паршивом институте на ее двадцать пять со всеми вытекающими обстоятельствами? Как и втекающими. Потому что ведь плечи, и поворот головы, и дыхание. И вообще.
Я смотрел на эту заочницу и думал – куда запропастилась моя собственная красавица? Я зря, что ли, отменил последнюю пару и притащился на эти похороны? Сама же меня заставила. Не успел даже продиктовать задание на следующий семинар. Как ветром всех сдуло.
– А что это вы здесь столпились? – сказала небольшая траурная старушка, входя на кухню. – Проходите в комнату. Надо у гроба. Там почти никого нет.
Я представил, как все мы протискиваемся вдоль длинного ряда табуреток, стукаясь коленками о гроб. И сколько раз тот, кто лежит в нем, протискивался точно так же. И стукал коленкой.
Мать в детстве объяснила, что выпадающие зубы во сне – это к чьей-то смерти. И сразу спросила – а кровь была? Беспокоилась за родственников. Еще часто снилось, что иду по грязи. В одних носках. По глубокой и жирной. Вокруг хлюпает и темно. Когда просыпался, всегда думал – лучше бы босиком. Почему в носках? При этом с возрастом – все чаще. И все реже – обнаженные женщины. К сожалению. Впрочем, множественное число неуместно. Они всегда приходили поодиночке. Никаких оргий. Скромное соитие «сингулярис». Хотя интенсивнее, конечно, чем наяву. Но ни разу с двумя. Видимо, Блок ошибся. Не азиаты мы. И где эта восточная кровь, которая дремлет у меня в венах? Хоть бы сны могли стать поразнообразнее. Впрочем, теперь уже все равно. Даже поодиночке почти не приходят.
Я оторвал взгляд от венков и от этих белых рук у него на груди и тут же наткнулся на взгляд Николая. Он сидел прямо напротив меня с другой стороны. От грусти в его лице уже ничего не осталось. Он подмигнул мне и кивнул в сторону двери в коридор. Я повернул голову.
* * *
– Ненавижу похороны, – сказала она, когда мы вышли в подъезд.
– Ты опоздала. Я просидел тут уже полчаса.
– Ничего страшного.
– Где ты была?
– Слушай, не будь занудой. Ты мне больше не дипломный руководитель. Смотри, как меня подстригли.
Она повертела головой в разные стороны.
– Классно?
– Да, ничего.
– Ничего?
Она ткнула меня кулаком под ребра.
– Эй, осторожней! Больно!
– Еще не так получишь!
– Ну, хорошо, хорошо! Отлично подстригли.
– Молодец. Давай еще.
– Тебе идет.
– Еще! – она требовательно смотрела мне в лицо, сурово сведя брови.
– Ты самая замечательная красавица.
Вот это было проблемой. Все остальное прекрасно, а вот это – проблема. Детские игры. На автобусных остановках иногда приходилось просить ее взять себя в руки. Замечательно идиотская просьба. Откуда они у нее возьмутся? Руки – возрастной феномен. Хотя тоже не у всякого появляются. В смысле – для того, чтобы себя в них взять. Далеко не у всякого. Поэтому приходилось смотреть по сторонам с глупой улыбкой. Понятно, что все догадывались, почему она ведет себя так. Кто не догадывался, мог прочитать у меня по лицу. И охотно читали. Что им еще было делать? Все равно автобуса долго нет. А рядом профессор обнимается со студенткой. Пунцовый.
Но, в общем, довольный.
Еще раздражали словечки. Впрочем, хуже всего – идентификационная система. Они определяют друг друга, обмениваясь названиями музыкальных групп. Два-три английских названия уходят в одну сторону, и столько же – навстречу. На довольно приличной скорости. Дальнейшая реакция зависит от пола. Девочки хлопают в ладоши и смеются, мальчики стукают друг друга по плечам. Если совпало. В общем, довольно просто.
Хотя у собак еще проще.
Боже мой, кто бы говорил. Собачьего в каждом из нас навалом. И не всегда от этого бывает противно. Бежишь себе в стайке за нею, бежишь. Может, и повезет.
– Зачем ты заставила меня сюда прийти?
Она вынула сигарету из синей пачки.
– Мне надо было кое-что тебе сказать.
– Здесь? На похоронах?
В это время дверь из квартиры открылась пошире, и оттуда шагнул Николай. Он встал посреди коридора и смотрел прямо на нас.
– Знакомьтесь, это моя жена.
Мне ведь надо было хоть что-то ему сказать. Он не сводил с меня взгляда.
– Я знаю, – сказал он. – Ее зовут Наташа.
– Знаете? – Я повернулся к нему.
– Ненавижу похороны, – сказала она. – Когда я умру, пусть меня сожгут…
– Вы что, знакомы с моей женой?
– Или вообще отвезут куда-нибудь на необитаемый остров…
– Подожди, Наталья! – Я попытался ее остановить.
– Да, мы знакомы, – наконец сказал он. – Мы с ней встречаемся, когда у вас лекции.
– Подождите… – начал я. – Это что, такой глупый розыгрыш?..
– Я ухожу от тебя, Слава, – неожиданно сказала она, давя каблуком едва зажженную сигарету. – Я ухожу от тебя к нему. Прости, но я не могла тебе сказать об этом дома.
Я смотрел на них и не знал, что говорить. В голове – абсолютная пустота. И в животе немного щекотно. Как на качелях. Но, в общем, давно уже не качался.
Неожиданно я подумал, что те дети во дворе, наверное, совсем замерзли. Мы простояли молча целую минуту, и я наконец выдавил из себя:
– Понятно. А вы… вы… давно познакомились?