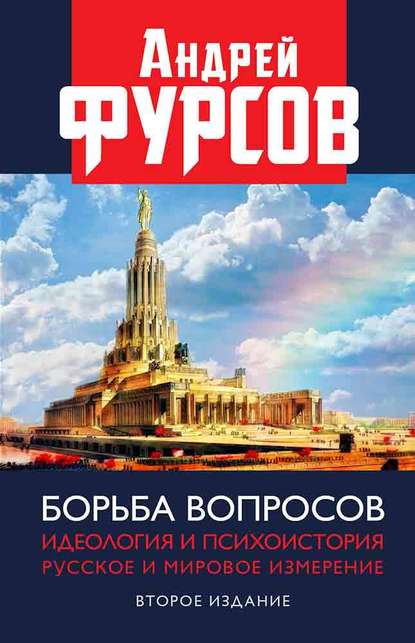По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Борьба вопросов. Идеология и психоистория. Русское и мировое измерения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обычно в книгах и альбомах, посвященных XIX в., портрет Маркса – в первой пятерке. Пятерка чаще всего выглядит так: Наполеон, королева Виктория, Дарвин, Маркс, Бисмарк. Люди, конечно, знаковые и в этом смысле очень достойные. И все же. Наполеон – это не столько сам XIX в., сколько вход в него (1789–1815 гг.). Значение Наполеона, хотя он увенчал Великую Французскую революцию и придал ей экспортную форму, хотя он и попытался, как заметил Ф. Фехер, провести социальный эксперимент – создать гражданское общество без демократии, т. е. первый авторитарный режим в строгом смысле слова, все же в целом не выходит за рамки XIX в., ограничивается им. Сама форма авторитарности – бонапартизм – была очевидно девятнадцативековой. Более того, будучи обращен к XIX в. и в XIX в. как бонапартист и «экспортер революции», в других важных отношениях Наполеон был обращен в сторону XVIII в., спиной к XIX. Одно из ключевых слов XIX в. – «идеология». Но именно идеологию и идеологов не жаловал Наполеон. Нет, скорее он венчал предшествующую XIX в. эпоху – как Гегель, Гёте, Бетховен и наш Пушкин, чем начинал новую, скорее писал эпилог к XVIII в. и пролог к XIX в.
Еще более ограничено значение королевы Виктории. Это ультрадевятнадцатый век. И хотя правила она с 1837 аж до 1901 г., т. е. захватив почти всю эпоху пика британской гегемонии (1815–1871) и значительную часть преимущественного доминирования «туманного Альбиона» (1871–1914), «въехала» в первый год XX столетия; викторианская эпоха – это 1840-е -1860-е годы. С 1870-х годов начинается новая эпоха, если не отрицающая «викторианский век», то, по крайней мере, существенно отличающаяся от него. Это – эпоха Бисмарка. Вот этот человек, безусловно, пережил свое время – последнюю треть XIX в. И хотя незадолго до смерти, осматривая гамбургские верфи, он несколько раз проговорил, что перед ним другой, совершенно другой мир, через «длинные двадцатые» (1914–1934 гг.), он тянется к «Третьему рейху», хотя, конечно, второсортным политикам из «Веймар и К?» и закомплексованным вождям рейха далеко до «железного канцлера».
Чарлз Дарвин. Человек, которому Маркс хотел посвятить «Капитал». Он тоже немного «вылезает» из «короба» XIX в. Но, на мой взгляд, очень немного.
Что касается Карла Маркса, то, оказавшись во многих отношениях квинтэссенциальной фигурой XIX в., он не только протянулся в XX в. дальше всех своих «коллег по великости» – по сути, до 1960-1970-х годов («молодежная революция» в 1968–1970 гг. в Первом мире, иранская революция 1979–1980 гг. в Третьем мире). Более того, в XX в. его «знаковое присутствие» на десяток лет больше, чем в XIX (1848–1950)!
Дело, однако, не только в количестве, но и в качестве, в многогранности. Я имею в виду следующее: Дарвин – это сфера биологии, научного мировоззрения в целом, некоторое влияние на социальные идеи (общественная жизнь как борьба за существование). Наполеон и Бисмарк – политика и война, хотя Наполеон – революционер и универсалист, а Бисмарк – контрреволюционер и националист. Виктория – это тоже политика, хотя скорее символически, чем реально. Реальную политику делали другие – Дизраэли, Гладстон.
Маркс… это почти все. Это идеология, это политика, это социальное движение, бунт, это наука и научное мировоззрение, это революция. И, конечно же, символ, знак, который в своих знаковости и символичности оказался намного сильнее Виктории, а также Наполеона, Дарвина и Бисмарка, возможно даже вместе взятых: никто из них так не попал в XX в.; никто из них не стал так известен за пределами Европы. Все люди, о которых шла речь, были европейцами, и их историческое значение не вышло за рамки Европы. Маркс был первым европейцем современной (modern) эпохи (1789–1991 гг.), чье значение имело не только общеевропейский, но и общемировой или, как любят говорить теперь, глобальный характер. Правда, мне больше нравится слово «всемирный», оно менее специфично, чем «глобальный», а потому в данном контексте более уместно. Можно сказать, что Маркс как фигура и «знак» родился одновременно с всемирной историей. Всемирная история, писал сам Маркс, существовала не всегда, она возникла в самой середине XIX в. Точнее, это было начало ее рождения. Само рождение заняло двадцать бурных лет – «длинные пятидесятые», 1848–1867 гг. Это двадцатилетие, началось «Манифестом Коммунистической партии» и революцией 1848 г. в Европе и окончилось реставрацией Мэйдзи в Японии и «Капиталом».
В XX в. с Марксом по глобальности, всемирности значения и значимости, может конкурировать только Ленин. Но Ленин – это, как, например, Фрейд или Эйнштейн, XX в., и только XX в. Маркс же – это и XX в., и век XIX. Это Современность в целом. Или, по крайней мере, большая ее часть.
Конечно, помимо известного за пределами Европы и России во всем мире Ленина можно вспомнить еще двух русских – Толстого и Достоевского. К тому же, начав в XIX в., они, в отличие, например, от Бальзака и Диккенса, шагнули в XX в. и во многих отношениях обусловили его, а следовательно, и Современность в целом. Но обусловили в гораздо более узкой, чем Ленин и тем более Маркс, сфере – литературе. Можно вспомнить и Ницше, оказавшего большое влияние на XX век, но влияние это оканчивается европейской зоной. Нет, Маркс все же суперчемпион. И не только по линии двух последних веков по отдельности и вместе взятых.
Маркс – отец-основатель научного антикапитализма и в этом смысле – ключевая фигура всей капиталистической эпохи, всей истории Капиталистической Системы. В капиталистической системе марксизм как идеология занимает нишу, эквивалентную той, которую сначала в Римской империи, а затем в Европейской цивилизации, в субъектном потоке исторического развития[2 - См.: Фурсов А.И. Капитализм в рамках антиномии «Восток – Запад»: проблемы теории // Капитализм на Востоке во второй половине XX в. – M.: Изд. фирма «Воет, литература», 1995. -С.82-104.] занимало христианство. Думаю, что в последние полтора века в христианском мире Маркс – вторая по значению и известности фигура после Христа. Если же говорить о нехристианском мире, то, думаю, здесь известность и значение Маркса как фигуры и знака не уступает или почти не уступает в XX в. Христу (подчеркиваю: сравниваю не личности – фигуры и «знаки»). В пользу подобного сопоставления и сравнения высказывается и Б. де Жувенель. Отличая решающую роль Маркса в развитии европейского массового сознания последних трехсот лет, он пишет, что аналогом мощнейшему посмертному существованию Маркса являются только основатели великих религий[3 - Jouvenel В. de. Marx et Engels: La longue marche. – P.: Julliard, 1983.-R12.].
Несколько снижая планку, установленную для Маркса де Жувенелем, Д'Амико пишет, что именно Маркс находится у истоков современных представлений о том, что такое общество, именно он задал новые направления для социальных исследований[4 - D’Amico R. Marx a. philosophy of culture. – Gainsville: Univ. press of Florida, 1981. – R16.].
Как знать, не замыкает ли Карл из Трира линию универсалистских пророков, чертить которую начал Иисус из Назарета. «Бородатый Чарли» с его мефистофелевской копной волос и почти демонической внешностью[5 - Ha демоническое во внешности и личности Маркса указывают многие. См. напр.: Levenstein I.J. Marx against marxsism. -L. etc.: Routledge a. Kegan Paul, 1980. – P. 96–97.] как последний пророк – не слишком ли это? Но ведь даже антихрист – это Христос со знаком минус. К тому же под определенным углом зрения Маркса отделяют от Христа всего лишь несколько сантиметров: Христос указывал на сердце и говорил, что все там и все оттуда. Маркс переместил перст на десяток сантиметров и возразил: нет, все здесь и отсюда – из желудка. Не является ли марксизм в этом смысле ожелудочиванием христианства и человека? Это далеко не худший вариант, поскольку Фрейд сместил «центр тяжести» еще на сколько-то сантиметров вниз, генитализировав человека. Шутки шутками, но Маркс, кажется, действительно самый известный европеец. Или, по крайней мере, был им в течение почти ста пятидесяти лет. Хотя в какой-то миг XX века с серьезным «Большим бородатым Чарли» по известности мог соперничать смешной «Маленький Чарли» с усиками (вплоть до того, что вьетнамская секта, «религиозно-политическая машина» Као Дай ввела Чаплина в пантеон своих святых). Забавная пара. Почти по Галичу:
Покойник пел, а я играю,
Могли б составить с ним дуэт.
Конечно, Маркс, этот бородатый витальный еврей-выкрест из Трира, стремящийся изжить, преодолеть свое еврейство как социокультурную характеристику, был неприятным субъектом: конфликтный, злобноругучий, тщеславный, интриган (впрочем, не очень успешный). Все так. Однако – гений, гении часто неприятны, каждое приобретение есть потеря. Одна из центральных фигур XIX в., Современности, Капиталистической эпохи (и мировой капиталистической системы), Европейской цивилизации как христианской.
Но почему? Ведь Маркс не преуспел во многих своих ипостасях, в каких-то просто проиграл, провалился, не вышел победителем. Непобедитель получает все? Как так?
Действительно, в качестве политика Маркс провалился. «Интернационал» не сработал, и выходец из Трира так и не стал Карлом Великим международного рабочего движения. А ведь хотелось. И как хотелось.
Не сбылось.
К тому же и репутация Маркса по ходу борьбы за власть в «интернационалке» оказалась подмоченной. Это была работа главным образом русских – Бакунина, Герцена, которых Маркс ненавидел и в борьбе с которыми средств не выбирал. Марксу мало было игры – интеллектуальной, игры, приносящей удовлетворение интеллектуалу. Ему хотелось – Власти. Похоже, она завораживала его, подобно тому, как Кольцо – «Precious» – завораживало толкиеновского Голлума. Во многих отношениях Маркс был завороженным странником власти, и это рикошетом ударило по его идеям, теориям, их качеству, г. Манн писал, что Маркс – это первоклассный автор, который втиснул свой ум в одну узкую колею и всю мировую историю хотел запихнуть в эту колею, которой следовал его ум[6 - Mann G. The history of Germany since 1789. – N.Y. etc.: Praeger, 1968.-P.82.]. А ум следовал за желанием.
…Хочу быть вождем – пророком мировой революции, мессией пролетариата. Поэтому великая пролетарская революция, которая радикально изменит мир, должна произойти. Я хочу изменить мир, прежние философы только описывали его, теперь пришла пора изменить. Революция не может не произойти. И не только потому, что Я хочу этого, а по объективным Законам Истории, открытым мной. Логика капитализма и наличие феномена буржуазных революций – вот два фактора, единство и противоречие которых гарантирует искру пролетарской революции, ее победу и создание мирового правительства. Во главе с лидером мирового пролетариата…
Так или примерно так, сознательно и (или) подсознательно (привет от еще одного еврейского пророка и научного мифотворца, не очень уж сильно разминувшегося с Марксом хроноисторически) мог рассуждать доктор Маркс, вступивший в союз с Дьяволом Истории – Разрушением, Раздором, поставившим на него[7 - Как заметил Д.Феликс, Маркс стал революционером «еще до того, как написал определение своей революции и обнаружил соратников-революционеров» (Felix D. Marx as politician. -Carbon dale etc.: Southern Illinois Univ. press, 1983. – P.18.).].
Личностная (для Маркса), а не только логическая (теоретико-историческая) необходимость революции, придававшая смысл жизни трирца и, по-видимому, многое компенсировавшая в этой личности, требовала научного обоснования мифа, порожденного Великой Французской революцией, требовала научного мифа. По иронии истории научный революционно-капиталистический миф Маркса появился тогда, когда условия, породившие социальный миф, исчезли. Наука, сциентизм у Маркса заменили реальность и функционально стали мифом.
Разумеется, всякий миф, даже научный, искажает реальность. Или заставляет искажать, что еще хуже. Он заставляет нарушать логику собственной теории, принося ее в жертву «человеческому, слишком человеческому», – ведь писал же Маркс, что ничто человеческое ему не чуждо. Результат? Например, появление в работах Маркса концепции «буржуазной революции» (как предшественницы, предтечи революции пролетарской), которая, как убедительно показал Дж. Комнинел[8 - Comninel J. Rethinking the French revolution: Marxism a the revisionist challenge. – L., N.Y.: Verso, 1987. – XIV, 225.], нарушает логику Маркса в подходе к буржуазной реальности, не вписывается в эту логику, по сути – концепция некритически заимствована им по политическим причинам у либеральной мысли.
Примеры нарушения собственной логики как возмездия за погоню за мифом – социальным и личным – можно множить, однако здесь в этом нет нужды. Ясно одно: обуживание, зауживание мысли приводит к плохим результатам – и тем худшим, чем мощнее мысль. А ведь Марксу приходилось зауживать себя не только по политическим причинам, но и, так сказать, по интеллектуально-коммуникативным.
Итак, революция, о необходимости которой все время после 1848 г. говорил Маркс, не произошла, а ведь на 1849 г. он предрекал – ни много, ни мало – восстание французских пролетариев и мировую войну! Wishful thinking. Та революция, что произошла, – Парижская коммуна, удручила и испугала: парижские пролетарии и люмпен-пролетарии улыбнулись смертельной улыбкой, и доктор Маркс напугался[9 - Т. Шанин даже полагает, что опыт Парижской коммуны, наряду с некоторыми другими факторами, включая изучение России, привел Маркса к существенному пересмотру, реконструкции его теории. Подр. см.: Late Marx a. the Russian road: Marx a. the peripheries of capitalism / A case prepared by T. Shanin (ed.). -L. etc.: RKP, 1983. – X, 286 p.].
Рабочий класс Европы обманул герра доктора, оказавшись не столь революционным и вполне успешно интегрировавшимся, вписывающимся в буржуазное общество – то самое, могильщиком которого предписали ему быть своим «Манифестом» «ученые товарищи Маркс и Энгельс». Пророчества Маркса не сбылись. В XIX в. не сбылись. А в XX – сбылись. Или, точнее, показалось, что сбылись – спасибо ученым товарищам Ленину и Троцкому – в России в 1917 г. После этого Маркс-пророк начал триумфальное шествие как сам по себе, так и на советских танках по дорогам Европы, пешком по долинам и взгорьям Китая, джунглям Вьетнама и т. д., пока не «налетел» на французских студентов, Че Гевару и аятоллу Хомейни.
И все же репутация пророка не была тесно связана с самими пророчествами Маркса. Ленины и Троцкие побеждали не в соответствии с логикой и пророчествами Маркса, а во многом вопреки им. А выглядело, будто в соответствии с ними. На таком фоне забывались, казались неважными и многие ошибочные прогнозы и суждения Маркса. Как тут не вспомнить замечание Г. Манна о том, что Маркс был эффективен и до сих пор остается таким, хотя его работа принесла не те результаты, которые он обещал[10 - Mann G. Op.cit. – Р.82.].
Маркс-философ? У Маркса, безусловно, была некая философия. Но можно ли назвать его философом? Спорный вопрос. Думаю, в целом удачно ответил на него Р. Хейлброунер, отметивший, что хотя марксизм – не философия, Маркс – не философ, но у его системы, бесспорно, есть философские основания[11 - Heilbroner R. Marxism: for and against. – N.Y., L.: Norton, 1980. -P.36.]. Осмысление социальной действительности с философских позиций – так охарактеризовал подход Маркса Э. Гулднер в своей книге «Два марксизма» (1980). Обо всем этом можно спорить. Однако, бесспорно, что Маркс не создал новой философии. Правда, после Гегеля философия в строгом смысле слова, пожалуй, действительно могла развиваться лишь по пути Шопенгауэра и Ницше – подобно тому, как, например, действительным развитием живописи после изобретения дагерротипа мог быть, пожалуй, лишь импрессионизм. Наследники философии (включая гегелевскую) по прямой оказались эпигонами и имитаторами. Маркс избежал этого. И все же он не стал философом. Точнее: избежал, потому что не стал.
Как экономист Маркс во многом устарел уже к концу XIX в., что неудивительно: экономически «мир Маркса» перестал существовать к концу XIX в. И уже Бем-Баверк, этот «австрийский Маркс», убедительно критиковал различные аспекты теории Маркса. Критиковали и другие. Критиковали по-разному и за разное. В том числе и за трудовую теорию стоимости. Необходимо признать, что, несмотря на эрудированность, прежде всего в экономической (политико-экономической) области, Маркс оказался наиболее уязвим (и наименее интересен) именно как профессиональный экономист. Прав Ж. Бодрийяр, считающий, что Маркс так и не смог довести до конца критику классической политэкономии[12 - Подр. см.: Baudrillard J. Pour une critique de l’economie politique du signe. – P.: Gallimard, 1972.], хотя связано это не только с экономической теорией Маркса. Впрочем, в слабости Маркса как экономиста я готов усмотреть и его силу, или, скажем так, эта слабость в качестве профессионального экономиста есть проявление силы Маркса, того главного в нем, в его теории, что делает его интересным и перспективным и в наши дни.
Я рад, что не один так думаю, а в хорошей компании, например, с Й. Шумпетером, чью точку зрения по причине ее афористичности имеет смысл привести на языке оригинала. Назвав Маркса гением и пророком, Шумпетер заметил: «Geniuses and prophets do not usually excel in professional learning, and their originality; if any, is often clue precisely to the fact that they do not»[13 - Schumpeter J.A. Capitalism, socialism, and democracy. – N.Y.: Harper a. Row, 1976. – P.21.].
В другой работе Шумпетер прямо говорит о том, что для него самое важное не качество экономических исследований Маркса как узкого специалиста, а его общая проницательность как человека, мыслителя; не столько сам экономический анализ и его результаты, сколько преданалитический познавательный акт[14 - Schumpeter J.A. History of economic analysis. – N.Y., 1954. – P.42.].
Преданалитический акт – это, прежде всего, общий метод, теоретический подход, общая, а не специализированно-экономическая, а социально-историческая теория – разумеется, у кого она есть. У Маркса была, и уже это хороший ответ тем, кто обвиняет его в экономцентризме и экономдетерминизме. Маркс довольно рано понял, что экономическая теория сама по себе не может объяснить долгосрочного экономического развития, как сказали бы теперь, экономического развития в longue duree; long run economics должна обладать историческим измерением, т. е. должна быть элементом более широкой и качественно более сложной и многомерной теории, чем экономика с ее одномерным homo oeconomicus. Как заметил все тот же Шумпетер, среди первоклассных экономистов Маркс был первым, кто понял, как можно превратить экономическую теорию в исторический анализ «и как исторический нарратив можно превратить в histoire raisonnee… Это также отвечает на вопрос… насколько экономическая теория Маркса увенчалась успехом в реализации его социологической системы (set-up). Она не увенчалась успехом; в этой неудаче (и этой неудачей) она формирует (establishes) цель и метод»[15 - Schumpeter J.A. Capitalism, socialism, and democracy. – N.Y.Harper a. Row, 1976. – P.44.].
Шумпетер, конечно же, прав в том, что сила Маркса – в его методе, в его научной программе, основанной на принципах историзма и системности, в его социально-исторической теории. Но прежде чем говорить о программе, теории и методе Маркса, необходимо начать с проблемы идеологии вообще и марксизма в частности, поскольку теория Маркса тесно связана с определенной идеологией. В свою очередь, проблема идеологии (и связанной с ней теории) влечет за собой проблему эпохи. Итак, теория (научная программа), идеология и эпоха. Начнем с эпохи.
2. Эпоха: концы и начала
Эпохи часто являются в большей степени ключом к системам идей и теориям, которые в эти эпохи возникают и которые, помимо прочего, призваны их объяснить, чем эти теории и идеи – ключом к самим эпохам, «ибо не знает человек времени своего» (Экклезиаст).
Гераклитовское «борьба – отец всего» в большей степени отражает реальность малоазийских греческих городов, чем объясняет ее; равновесные модели Т. Парсонса и неравновесные модели И. Пригожина прежде всего социоморфически отражают свое время, а уж затем «объясняют» его. Понять мыслителя, его теорию – это, прежде всего, понять время, эпоху, а еще лучше, если возможно, почувствовать их.
Развитие Маркса как человека, мыслителя, ученого пришлось на две тесно связанные, но очень разные эпохи европейской и мировой истории. Фундамент был заложен в двадцатилетие 1830-1840-х годов (а внутри него – особенно в 1840-е), венчавшее «эпоху революций» (1789–1848), или, как выразился А. Токвиль, «шестидесятилетнюю революцию». Как человек и мыслитель Маркс, а следовательно, и его представления, взгляды, ценности – все, что входит в «преданалитическую деятельность», хотя и не исчерпывает ее, все, что обусловливает «первый метафизический шаг», сформировался в основном в 1830-1840-е годы. В этом смысле можно сказать, что Маркс сформирован революционной эпохой, эпохой рождения, генезиса, зари Современности; он – «революционно-утренний» человек Современности. И хотя у Маркса, в отличие от его старших современников, например Гейне, не было непосредственного опыта наполеоновской эпохи – в лучшем случае Маркс лишь мальчиком мог уловить ее уходящий аромат, тем не менее, наследуя эпоху в целом, он наследовал и этот ее героико-романтический, индивидуалистический («наполеоновско-байронический») «сегмент» помимо революционно-массового.
Доформировывался Маркс в «длинные пятидесятые» (1848–1867), трудясь над рукописями, которые в 1867 г. отлились в «Das Kapital». Это была уже другая эпоха, по-своему более острая и насыщенная, чем 1830-1840-е годы. Выражаясь языком Маркса, 1850-1860-е годы представляли собой эпоху уже формационного капитализма, т. е. собственно капиталистическую эпоху, ее довольно бурное начало. И все же повторю: фундамент в развитии Маркса был заложен на входе в (формационный) капитализм, на его пороге, а не самим капитализмом, или, по крайней мере, далеко не только им, что обусловило как сильные, так и слабые стороны социально-исторической теории Маркса.
Что же это было за время – время Маркса? Чем и какими были два двадцатилетия, сформировавшие его самого и хронологически вместившие две трети его жизни, его теорию? Оба двадцатилетия, безусловно, переломные, особенно 1830-1840-е, с которых я и начну. 30-40-е годы XIX в. стали временем великого перелома (не в сталинском, разумеется, смысле), многостороннего и многоуровневого кризиса западноевропейского общества, который изменил жизнь не только Европы, создав, выковав из нее «Запад», но и «земной цивилизации» в целом, породив всемирную историю, а вместе с ней надежды и мечты, оказавшиеся в большинстве своем иллюзиями. Но в то время об этом еще не знали. Маркс был сыном того времени, крайне противоречивого. И Маркс своей личностью, идеями и трудами отразил и выразил эту противоречивость. Он и сам – как мыслитель, политик – был очень красноречив, этот Антихрист буржуазии и Христос пролетариата, что, по-видимому, во многом и является залогом его интеллектуального бессмертия. Или, скажем так, практического, виртуального бессмертия, которое, по-видимому, прямо пропорционально «плотности» противоречий, воплотившихся, сконцентрировавшихся в том или ином человеке и тем более мыслителе.
Прежде всего, 1830-1840-е годы венчали внутри-формационный, как сказал бы Маркс, т. е. структурный, а не системный кризис капиталистической системы. Это был кризис, экономически связанный с переходом от ранней, мануфактурной стадии к зрелой, промышленной, когда формируется адекватная капитализму как исторической системе (формации) индустриальная система производительных сил, когда происходит становление капиталистического общества в строгом системно-историческом (формационном) смысле этого слова.
Политически кризис был связан с переходом от структур, институтов Старого Порядка (Ancien Regime) к тому, что К. Поланьи назовет «цивилизацией XIX в.». И хотя А. де Токвиль отметил многие черты преемственности между дореволюционной и послереволюционной Францией, а А. Майер[16 - См.: Mayer A J. The persistence of the old order: Europe to the Great War. – L.: Croom Helm, 1981. – 368 p.] показал, что Старый Порядок сопротивлялся вплоть до 1914 г., тем не менее различие между Европой до 1789 г. и после 1848 г. неоспоримо и очевидно. Как очевидной стала в середине XIX в. задача создания принципиально новых институтов социально-политического контроля вместо «старопорядковых», оказавшихся неадекватными формирующемуся индустриально-массовому обществу. Отсюда в конечном счете легализация политической оппозиции в капиталистическом обществе – черта, принципиально отличающая это общество от всех прочих[17 - Cm.: Wallerstein I. Historical capitalism. – L.a. N.Y.: Verso, 1983. -P.47–72.].
Социально кризис был обусловлен сдвигом от аграрного, «группового» общества к урбанистическому, массовому.
Во-вторых, 1830-1840-е стали кризисом не только с формационной, но и с общесоциальной точки зрения, т. е. кризисом в развитии западноевропейского общества в целом. Если революционная эпоха 1790-1840-х годов была переходной от одной структуры капиталистической системы к другой, то «хвостик» самой этой эпохи – 1830-1840-е годы – стал, в свою очередь, переходом от революционной, «межструктурной», промежуточной эпохи к новому структурному состоянию, или, как сказал бы Э. Хобсбаум, transition from «the age of revolution» to «the age of capital». Этот переход, помимо прочего, предполагал превращение «опасных классов» (dangerous classes, classes dangereux) Великобритании и Франции, которыми тогда ограничивался «авангард прогресса», в «рабочие классы» (laboring classes, classes laboreux). На повестку дня была поставлена задача их «деданжеризации», превращения в формационно-капиталистический рабочий класс, относительного социально-политического замирения. Маркс ошибочно принял за «рабочий класс» именно «опасные классы»; за агента капитализма – агента революционной эпохи, предшествующей формационному капитализму, агента, который уходил в прошлое вместе с революционно-романтической эпохой, таял, подобно силуэтам с романтических полотен Каспара Давида Фридриха, оказываясь исчезающей натурой европейского общества той поры[18 - Подр. о причинах отождествления Марксом капитализма с социально-экономической ситуацией Англии первой трети XIX в., а рабочего класса – с «опасными классами» см.: Фурсов А.И. «Манифест Коммунистической партии», или 150 лет спустя // РИЖ. – M., 1998. – Т.1., № 1. – С. 275–279.].
В-третьих, 1830-1840-1850-е годы оказались водоразделом, переломным, кризисным временем в истории европейского исторического субъекта, европейской цивилизации. За этот отрезок времени локальная Европа стала феноменом мирового уровня – Западом, Западом Все-мира, европейский meum превратился в мировой универсальный verum, а европейским универсалистским, исторический субъект обрел универсум, мир в целом как locus operandi и field of employment, что впервые в истории обеспечило адекватную ему производственно-географическую форму, превратив саму историю во всемирную.
Превращение, о котором идет речь в данном случае, является настолько важным и глубоким, что о нем следует сказать несколько подробнее. Дело в том, что цивилизационность как качество исходно, генетически ограничено некими пространственными рамками; цивилизационность – качество локальное и, что еще важнее, локалистское. Европейская (западная, «франкская») цивилизация, которая начала возникать с христианством во времена поздней античности и оформилась с рождением готики (хотя это, разумеется, спорная датировка), исходно была универсалистской. В этом смысле она никогда не была локалистской и существенно отличалась от локальных цивилизаций, будь то китайская или индийская, в которых субъект социально вообще не фиксировался, или античная, где субъект был коллективным и локальным (полис). Можно говорить о локальной ограниченности, но не о локальном характере (локализме) Европейской цивилизации.
Несмотря на то что с XII в. Европейская цивилизация начинает расширение, пульсирующую экспансию – и это тогда, когда другие цивилизации в целом прекратили территориальный рост, приведя в соответствие свои локальные границы и характер, – до первой трети/середины XIX в. Европа качественно остается локально ограниченной системой. Только капитализм на его промышленной стадии позволил ей производственно, социально-экономически устранить локальные ограничения или сделать их незначимыми, охватить весь мир, сделать мир своим locus operandi. Только промышленный («формационный») капитализм позволил европейскому историческому субъекту обрести адекватную ему форму – Универсум, сняв противоречие между универсалистским содержанием и локально-ограниченной формой, между универсалистской субъектностью и цивилизационностью как качеством, как локалистской системностью или даже структурностью. Не случайно капитализм не создал своей особой цивилизации (прав X. Зедль-майр, согласно которому последним оригинальным цивилизационным движением Европы было барокко, пришедшееся на «пересменку» формаций, на промежуточную историческую эпоху): он в ней не нуждается. Капитализм располагается на ином, чем цивилизационность, уровне, хотя имеет вполне очевидные цивилизационные корни. Это не есть провал или негативная характеристика капитализма, но его положительное качество[19 - Подр. см.: Фурсов А.И. Колокола Истории. – M.: ИНИОН, 1996. -С.301–312.]. Можно сказать и так: капитализм – это преодоление цивилизационности, это ответ универсалистского исторического субъекта и всем цивилизациям, включая родную европейскую, и цивилизационности как явлению; это социально-экономическое, производственное освобождение универсалистского субъекта от локальноцивилизационных наростов – большинства, или почти всех, как это произошло в США.
Ответ, о котором идет речь, в 1830-1840-е становился все очевиднее, а в 1850-1860-е годы он уже просто проявился в сферах экономики, рынка; европейская мир-экономика вышла на финишный круг превращения в мировую капиталистическую экономику.
Суть в том, что, в-четвертых, кризисная, переломная эпоха в развитии универсалистского исторического субъекта Европы, в развитии Европейской цивилизации, европейского общества в целом была тесно связана с качественными сдвигами в развитии мирового рынка и европейской мир-экономики. Эти сдвиги стали средством и реализации, и преодоления кризиса, о котором идет речь. 1830-40/50-е годы – явились как время превращения европейской мир-экономики в капиталистическую мировую экономику; мировой рынок расширился до глобальных пределов, фактически охватив весь мир. Маркс и Энгельс писали, что в середине XIX в. Европа заново переживает свой XVI в. – в смысле географических открытий, резкого и качественного расширения ойкумены. Количество и масштаб географических открытий конца 1840-1850-х годов превзошли все, что было достигнуто с XVI в., со времен Колумба и Магеллана, мир оказался распахнутым настежь Европой и Европе. Запад (капитализм) взял его в оперативную разработку.
Расширение мира до планетарных размеров, совпадение «мирового» и «глобального» – процесс, который мне хочется назвать «жюльвернизацией мира», – были достигнуты прежде всего за счет и посредством включения в уже освоенный мир, в мировой рынок той части мира, которую мы теперь называем Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Последнее произошло путем «открытия» Китая в ходе «опиумных войн», а также открытия золота в Калифорнии (1849) и в Австралии (1851). Особенно серьезные последствия для мира имело калифорнийское золото – именно оно заставило американцев строить трансконтинентальные железные дороги, выходить на Тихий океан, а затем «открывать» Японию и «замыкать шарик» с запада на восток, надевая на него капиталистический обруч и возвещая начало подлинно всемирной истории. Последняя, как совершенно верно отмечали Маркс и Энгельс, существовала не всегда, а возникла в середине XIX в.
То есть тогда, когда мир совпал с «глобусом», став Все-миром. Заметим: в этом смысле Маркс с его теорией оказывается на грани эпох, в хроноисторическом пограничье – между региональной эпохой и всемирной, между эпохой локусов и регионов, с одной стороны, и мировой (всемирной) системы – с другой.
За превращение во всемирную Истории пришлось заплатить. В течение двадцати лет после 1848 г. (1848–1867 гг., «длинные пятидесятые») она впервые испытала синхронное всемирное потрясение, одновременный (или даже одномоментный – в исторических масштабах) шок как реакцию на объединение, сжатие. Капитализм надавил, и мир – теперь единый, жюльвернизированный, засопротивлялся – сразу и почти во всех своих частях. За революцией 1848 г. последовали установление Второй империи во Франции (1851), Крымская война (1853–1855), отмена крепостничества в России (1861), польское восстание (1863), начало объединения Италии и Германии (1860-е годы), гражданская война, победа промышленного Севера над аграрным Югом и отмена рабства в США (1861-1865-е годы), сипайское восстание в Индии (1857), тайпинское восстание в Китае (1850–1864), начало реставрации Мэйдзи (1867) – последняя, конечно же, не была буржуазной революцией, что пытались доказывать ретивые сторонники «пятичленки», но открыла путь в эпоху, в которой буржуазные преобразования стали возможны.