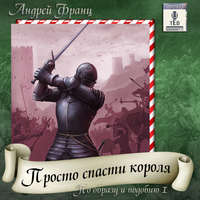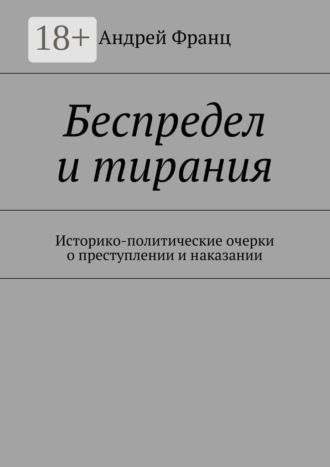
Беспредел и тирания. Историко-политические очерки о преступлении и наказании
Иначе говоря, куриальные комиции были заменены центуриальными комициями. В переводе на русский язык это означает следующее. Если раньше народные собрания собирались по родам (куриям), то теперь – по воинским подразделениям, центуриям. Буквально, «по ротам». Ну, все в полном соответствии с принципами военной демократии: воюешь – имеешь политические права, не воюешь – извини!
Собственно, для государств античности это были стандартные реформы при переходе от архаического периода, где главенствовал род, к классическому периоду, где гражданство ставилось в зависимость от имущественной способности участвовать в войске54.
Итак, реформами Сервия Туллия основные проблемы с гражданством в римской общине на долгие годы вперед были решены. Последующее через какое-то время превращение монархии в республику не несло для римского общества кардинальных изменений, ибо все политические структуры будущего республиканского строя уже давно созрели внутри монархии55, и им осталось лишь заявить о себе каким-то громких политическим жестом. Изгнание Тарквиния Гордого – последнего царя Рима – и стало таким жестом.
При этом собственно царская власть – как совокупность властных полномочий – никуда не делась. Она просто была поделена на двоих человек – консулов, избираемых на центуриальных комициях сроком на один год. Каждый из консулов мог заблокировать решение своего коллеги, что давало некоторые гарантии от злоупотребления властными полномочиями.
Отныне главным двигателем римской истории стали внутренние экономические противоречия между гражданами, которые превратили жизнь республики фактически в гражданскую войну, то затихающую, то разгорающуюся с новой силой и в конечном итоге – все же погубившую Республику.
2. Римская республика – есть республика рабоч…, виноват, товарищи – пока только крестьян!
Что же это за противоречия? Попробуем разобраться в них более детально.
Подводя итоги реформам Сервия Туллия, мы видим, что отныне и на долгие годы вперед основой основ римского государства становится земледелец, крестьянин, с мечом в руках отвоевывавший для себя все новые и новые земли, а затем – уже плугом – закреплявший их за растущей державой. «Как государственное устройство, так и вся римская военная и завоевательная политика, пишет в этой связи Моммзен, – были основаны на оседлости; так как в государстве имел значение только оседлый житель, то и война имела целью увеличить число таких оседлых членов общины.
Покоренная община или была вынуждена совершенно слиться с римским земледельческим населением, или – если дело не доходило до такой крайности – не облагалась ни военной контрибуцией, ни постоянной данью, а уступала часть (обыкновенно треть) своих полей, на которых потом обычно возникали жилища римских земледельцев. Были многие народы, умевшие так же побеждать и завоевывать, как римляне; но ни один из них не умел подобно римскому закрепить вновь приобретенную землю в поте своего лица и вторично завоевывать плугом то, что было завоевано копьем»56.
Фактически, ключевым элементом самоподдерживающейся римской экспансии был механизм раздачи государственных земель. Земледелец в составе римского войска эти земли отвоевывает. Затем государство их делит и раздает членам общины, тем самым увеличивая количество новых земледельцев, готовых встать в строй римских легионов и добыть для себя новые земли. Именно вокруг раздачи земель и происходила главная политическая борьба эпохи Республики.
Итак, земледелец, вторично завоевывающий плугом то, что было завоевано копьем. Вот – основа и фундамент расширяющейся римской державы. Именно уничтожение этого ключевого элемента стало началом конца Республики. Но кто же уничтожил римского пахаря, отняв у него землю и превратив его в неимущий и безземельный пролетариат? Кто уничтожил этот когда-то мощнейший фундамент Римского государства? На чьих руках, выражаясь фигурально, кровь Римской республики?
Для того, кто внимательно прочитал предыдущую главу, очевидно, что уничтожение римского крестьянства как станового хребта римской государственности – могло быть делом рук только лишь республиканской олигархии, на уровне основных инстинктов стремящейся к присвоению ключевых ресурсов общества.
Для римского общества ключевым ресурсом была земля. Именно борьба за землю между римским крестьянством – с одной стороны, и римской земельно-финансовой олигархией – с другой стороны и составляла главное содержание истории Римской Республики. Несколько огрубляя, можно сказать, что аграрная история римской Республики – и была в то же время политической историей этого периода. А победа римской олигархии, окончательное присвоение ею государственных земельных фондов, ознаменовало собой начало конца Республики, ее погружение в нескончаемую череду гражданских конфликтов и войн, завершившихся установлением монархической формы правления.
Посмотрим, как это было.
3. Лучшие люди Рима, или битва за землю начинается!
Олигархический класс формировался в Риме трояким образом. Во-первых, в него вошли «старые граждане» – патриции, в руках которых были закреплены важнейшие государственные функции: формирование Сената, формирование городского магистрата, кооптация членов жреческих коллегий, утверждение решений Народного Собрания. Во-вторых, денежные капиталисты, ростовщики, извлекающие из римского крестьянства земельную ренту. Наконец, за счет формирования системы откупов57 очень быстро возник слой богатых откупщиков, берущих «на аутсорсинг» исполнение важнейших фискальных и организационно-снабженческих функций Римского государства. Все эти три отряда лучших людей достаточно быстро сливаются в один господствующий политический класс. В римскую знать.
И первым крупным шагом республиканской знати по присвоению ключевого ресурса Республики стало постепенное замещение системы раздачи государственных земель так называемыми оккупациями. Что такое оккупации?
Если государственные раздачи земель производились путем государственного распределения завоеванных пахотных угодий между рядовыми гражданами путем отдачи земельных угодий в собственность или долгосрочную аренду, то оккупации земель имели совсем другую основу. Это был самовольный захват государственных земель на «временной основе» – до тех пор, пока эти земли не поступят в систему государственных раздач. Иначе говоря, владельцем земли становился тот, кто первый успевал на ней «осесть». А «временное пользование» очень быстро превратилось в постоянное и бессрочное. И «оккупированные» земли до системы государственных раздач просто перестали доходить.
Вот что пишет об этом Теодор Моммзен.
«До тех пор постоянно производилась раздача земель, в особенности в случае завоевания новой территории; при этом наделялись землей все самые бедные граждане и оседлые жители… Хотя правительство и не осмелилось совершенно прекратить такую раздачу земель и тем более ограничить ее одними богатыми людьми, но оно стало производить наделы реже и в меньших размерах, а взамен их появилась пагубная система так называемой оккупации, состоящей в том, что казенные земли стали поступать не в собственность и не в настоящую срочную аренду, а в пользование тех, кто ими прежде всех завладел, и их законных наследников, с тем, что государство могло во всякое время отобрать землю назад…
Но теперь это временное пользование не только превратилось в постоянное, но, как и следовало ожидать, стало предоставляться только привилегированным лицам или их фаворитам… К этому присоединилось, вероятно, уже в ту пору возникавшее крупное сельское хозяйство, вытеснявшее мелких клиентов-фермеров, взамен которых стали возделывать землю руками пахотных рабов; этот последний удар было труднее отвратить, чем все вышеупомянутые политические захваты, и он оказался самым пагубным.
Тяжелые, частью неудачные войны и вызванное этими войнами обложение чрезмерными военными налогами и трудовыми повинностями довершили остальное, вытеснив землевладельца из дома и обратив его в слугу, если не в раба заимодавца, или же фактически низведя его как неоплатного должника в положение временного арендатора при его кредиторах. Капиталисты, перед которыми тогда открылось новое поприще для прибыльных, легких и безопасных спекуляций, частью увеличивали этим путем свою поземельную собственность, частью предоставляли название собственников и фактическое владение землей тем поселянам, личность и имущество которых находились в их руках на основании долгового законодательства.
Этот последний прием был самым обыкновенным и самым пагубным: хотя он иных и спасал от крайнего разорения, но ставил поселянина в такое непрочное и всегда зависевшее от милости кредитора положение, что на долю поселянина не оставалось ничего, кроме отбывания повинностей, и что всему земледельческому сословию стала угрожать опасность совершенной деморализации и утраты всякого политического значения»58.
4. Народ безмолвствует? Ага, щас!
Не правда ли, знакомая картина! Менее, чем за столетие до этого ровно аналогичную ситуацию застает Солон в Афинах. Земля сконцентрирована в руках немногих, основная масса крестьянства – в долговой кабале у полисной знати, воевать некому. В Афинах долговой кризис был разрешен Солоном, наделенным для этого диктаторскими полномочиями. В Риме тоже не обошлось без диктатора. Но, к чести римлян нужно сказать, что главную роль в разрешении долгового кризиса сыграл здесь не диктатор, а сам народ.
Вот как это было. Слово Теодору Моммзену.
«Строгое применение долгового законодательства… возбудило раздражение среди всего крестьянства. Когда в 259 г. [495 г. до н. э.] был сделан призыв к оружию ввиду предстоявших опасностей войны, военнообязанные отказались повиноваться. Затем, когда консул Публий Сервилий временно отменил обязательную силу долговых законов, приказав выпустить на свободу арестованных должников и прекратить дальнейшие аресты, крестьяне явились на призыв и помогли одержать победу.
Но по возвращении с поля битвы домой они убедились, что с заключением мира, из-за которого они сражались, их ожидают прежняя тюрьма и прежние оковы; второй консул Аппий Клавдий стал с неумолимой строгостью применять долговые законы, а его коллега не посмел этому воспротивиться, несмотря на то, что его прежние солдаты взывали к нему о помощи. Казалось, будто коллегиальность была учреждена не для защиты народа, а в помощь вероломству и деспотизму; тем не менее, пришлось выносить то, чего нельзя было изменить.
Но, когда в следующем году война вновь возобновилась, приказания консула уже оказались бессильными. Крестьяне подчинились только приказаниям назначенного диктатором Мания Валерия, частью из почтения перед высшею властью, частью полагаясь на хорошую репутацию этого человека, так как Валерии принадлежали к одному из тех старинных знатных родов, для которых власть была правом и почетом, а не источником доходов.
Победа снова осталась за римскими знаменами; но, когда победители возвратились домой, а диктатор внес в сенат свои проекты реформ, он встретил в сенате упорное сопротивление. Армия еще не была распущена и по обыкновению стояла у городских ворот; когда она узнала о случившемся, среди нее разразилась давно угрожавшая буря, а корпоративный дух армии и ее тесно сплоченная организация увлекли даже робких и равнодушных. Армия покинула полководца и лагерную стоянку и, удалившись в боевом порядке под предводительством легионных командиров, которые были если не все, то большею частью из плебейских военных трибунов, в окрестности Крустумерии, находившейся между Тибром и Анио, расположилась там на холме как будто с намерением основать новый плебейский город на этом самом плодородном участке римской городской территории.
Тогда и самые упорные из притеснителей поняли, что гражданская война поведет к их собственному разорению, и сенат уступил. Диктатор взял на себя роль посредника при определении условий примирения; граждане вернулись в город, и внешнее единство было восстановлено. Народ стал с тех пор называть Мания Валерия «величайшим» (maximus), а гору на той стороне Анио – «священной». Действительно, был нечто могучее и великое в этой революции, предпринятой самим народом без твердого руководителя, со случайными начальниками во главе и кончившейся без пролития крови; граждане потом охотно и с гордостью о ней вспоминали»59.
Впрочем, народ Рима рано радовался. Ведь долговые амнистии коснулись лишь текущего момента. Сами же долговые законы никуда не делись. Точно так же, как никуда не делись земельные оккупации, передающие государственный земельный фонд исключительно в руки богатых и знатных. Так что, стояние легионов у Крустумерии всего лишь на некоторое время отсрочило кризис. И не более того.
5. Путь славный, имя гордое народного заступника…
Наиболее дальновидные и честные представители римской знати не могли этого не понимать. Им было очевидно, что ростовщическая политика, загонявшая римлян в долговую кабалу и в рабство, а также политика концентрации земель в руках патрициата, превращавшая становой хребет Рима, земледельца в неимущий пролетариат – с неизбежностью приведут к социальному взрыву, который просто разнесет Республику вдребезги и пополам.
Одним из них был Спурий Кассий60, выходец из старого патрицианского рода, удачливый военный, популярный государственный деятель. Именно он в конце своего третьего консулата внес на рассмотрение Сената аграрный закон, который бы возобновил раздачи государственной земли в том виде, как это было во времена Сервия Туллия.
Почему именно этот человек решил вступить в борьбу с римским Сенатом, отстаивая интересы народа Рима? Трудно сказать. Известный немецкий античник Генрих Штолль считал – и я, пожалуй, присоединюсь к этому мнению – что главным мотивом римского военноначальника был вопрос чести. Вот, что он пишет: «Весьма вероятно, что при переговорах с удалившимися на Священную гору плебеями патриции сделали уступки относительно ager publicus61. Но именно в то время Спурий Кассий был вторично избран консулом, и он, без сомнения, содействовал заключению мира. Так как сделанные тогда обещания были отложены потом в сторону, то, будучи избран консулом в третий раз, он, может быть, счел себя обязанным снова поднять это дело, чтобы исполнить долг справедливости в отношении народа»62.
Черт возьми, хорошо сказано! Долг справедливости в отношению народа! Как здорово было бы нашим законодателям уметь произносить хотя бы вполовину такие же сильные слова. А если бы еще и следовать им…
Итак, Спурий Кассий предложил гражданской общине измерить общинные земли и частью сдать их в аренду в пользу государственной казны, частью разделить их между нуждающимися. Другими словами, он попытался вырвать из рук Сената заведование государственными землями и, опираясь на народ, положить конец эгоистическому захвату земель. Случилось это в 486 г. до н. э., то есть через девять лет после первой сецессии63 на «священную Гору».
В соответствии с новым законом, доли патрициев при получении общественных земель должны быть строго ограничены, оставшуюся после выделения доли патрициев землю следовало разделить среди плебеев. При этом с участков, принадлежащим патрициям, должна была взиматься десятина урожая – в качестве налога в казну, который до этого платили только плебеи.
Предложенный закон вызвал активное недовольство коллеги Спурия Кассия – второго консула Прокула Виргиния и других патрициев. Тем не менее, закон был принят, но в дальнейшем на практике так ни разу и не применялся. Почему?
Тит Ливий в своей «Истории Рима от основания Города» пишет кратко и емко. «Спурий Кассий, бывший консул, обвинен в стремлении к царской власти, осужден и казнен»64. Если же рассказывать чуть подробнее и в лицах, то дело было так. В 485 году до н. э., после окончания срока консулата, Спурий Кассий перед комицией курий был обвинён квесторами65 Кезоном Фабием Вибуланом и Луцием Валерием Потитом в попытке узурпации власти.
На каком основании? Как ни странно, исторические документы не донесли до нас ни единого доказательства, которыми оперировали обвинители Спурия Кассия. Так что мы просто не знаем, на каком основании он был обвинен. И были ли такие основания вообще. И мы с вами имеем полное право толковать такое удивительное молчание исторических документов наиболее естественным образом. Не было никаких оснований, поэтому их и не донесли до нас хроники. А вот обвинение – точно было. И имело лишь одну-единственную меру наказания – смертную казнь.
Каковая и была без всякого промедления приведена в исполнение. Квесторы низвергнули государственного преступника с Тарпейской скалы. Его имущество было конфисковано и посвящено богине Церере, дом снесен, а место, на котором он стоял, перекопано, посыпано солью и оставлено пустым. Статуя, изображавшая бывшего консула, расплавлена.
Вот так вот умели олигархи Римской Республики расправляться со своими врагами.
«Так великий и заслуженный человек пал жертвой своекорыстия патрициев, которые ради служения своим личным интересам и своей мести не побоялись совершить убийство невинного»66, – заканчивает Генрих Штолль рассказ о великом, но, увы, малоизвестном широкому читателю римском консуле. Нужно сказать, что обвинители Спурия Кассия не остались без награды. В первые же два года после его казни и Кезон Фабий, и Луций Валерий были избраны консулами. Что ж, римский Сенат умел быть благодарным!
И все же – притязал ли Спурий Кассий на царскую власть? С фактической стороны, похоже, это обвинение является полным вздором. Но вот в анализе этого сюжета, сделанном Теодором Моммзеном, мы находим совершенно гениальное утверждение: «… есть что-то похожее на правду в обвинении, что он хотел присвоить себе царскую власть, так как он действительно, подобно царям, попытался оградить свободных простолюдинов от своего собственного сословия»67.
Блестящая, классическая в своей строгости и ясности формулировка! Царская власть – есть попытка оградить свободных простолюдинов от своего собственного сословия. Умри – лучше не скажешь! Запомним ее, ибо это – основа основ любой монархической идеологии. А также – хорошей, правильной, монархической правоприменительной практики.
6. Нет человека – нет проблемы? Ошибаетесь, граждане!
Вернемся, однако, в Римскую Республику. Положение дел после казни Спурия Кассия самым наглядным образом опровергло известное правило, согласно которому «нет человека – нет проблемы». Ибо человека уже не было, а проблема, как раз, осталась. С одной стороны – недовольство плебса, народные бунты в самом прямом смысле слова. С другой стороны – война за порогом, а воевать некому. Война с эквами, война с вольсками. С Вейями – это город такой – тоже война. Но кто же будет воевать за родимое отечество, если получает от него лишь пинки и земельные оккупации?
Фактически, уже здесь мы наблюдаем вступление Римской республики в зону беспредела. Беспредела в уже принятом нами смысле слова. Ведь Сенат Рима, римские олигархи действуют самым естественным для себя образом – увеличивают свое собственное богатство и могущество за счет разорения низшего класса. Но именно разорение римских землевладельцев, опять-таки естественным образом, приводит к ослаблению коллективного могущества римской аристократии перед лицом внешних врагов – эквов, вольсков, вейентов и т. д. Иначе говоря, уже на этом этапе римский патрициат почти спилил тот самый сук, на котором сидел.
Дошло до того, что Кезон Фабий, да-да, тот самый, бывший когда-то обвинителем Спурия Кассия, став консулом в 479 г. до н. э., начал призывать Сенат к исполнению аграрного закона, предложенного его казненным предшественником. Вот как сильно припекло!
В таком вот режиме более или менее горячей гражданской войны проходит еще пара десятилетий, пока Сенат, наконец, не соглашается на создание гражданского уложения, где были бы урегулированы все спорные вопросы между народом и Сенатом Рима. В Грецию было отправлено посольство с поручением привезти оттуда Солонов и другие греческие законы. И вот, после его возвращения были выбраны децемвиры на 451 г. до н. э. – десять особо доверенных граждан от плебса и от патрициев, заменяющих в этом году всю высшую государственную власть и уполномоченных на составление гражданского уложения Республики.
Сказать по правде, насчет вхождения плебеев в состав децемвирата я погорячился. Ибо это была только теория. В действительности же, как писал Теодор Моммзен, «несмотря на то, что было дозволено выбирать и плебеев, оказались выбранными исключительно патриции – так сильна была в то время аристократия»68.
Как же так получилось, что при явном количественном большинстве плебса в состав децемвирата были избраны исключительно патриции? Может быть, они пользовались всеобщим уважением, их любили? В общем-то, нет. Это были десятилетия бунтов и общей ненависти между плебейской и патрицианской партиями. Так в чем же секрет?
А дело было все в том, что в Римской Республике уже тогда были весьма развиты институты народовластия. И, соответственно, технологии манипулирования результатами выборов. Послушаем Теодора Моммзена!
«Как хитро велись интриги, всего лучше видно из того, что уже в 322 г. [432 г. до н. э.] было признано необходимым издать особый закон против злоупотреблений на выборах, который, как и следовало ожидать, не принес никакой пользы. Если не удавалось повлиять на избирателей подкупом или угрозой, то за дело брались распорядители выборов.
Так, например, они допускали так много плебейских кандидатов, что голоса оппозиции разделялись между этими кандидатами и пропадали без всякой пользы, или же они устраняли из списка тех кандидатов, которых намеревалось выбрать большинство. Если же, несмотря на все усилия, исход выборов оказывался неудовлетворительным, то спрашивали жрецов, не случилось ли при птицегадании или при совершении каких-нибудь других религиозных обрядов чего-нибудь такого, что доказывало бы недействительность выборов, а жрецы всегда находили то, что от них требовалось»69.
Не правда ли, мило? Вот ввести еще птицегадание в российское Законодательство о выборах, и никаких отличий от древнеримской практики просто не останется. Но, однако, мы с вами отвлеклись от деятельности децимвирата, коим было поручено уже составить, наконец, Конституцию Римской Республики.
7. Конституция должна быть конституционной, или Законы Двенадцати Таблиц
Итак, Конституция таки была составлена и высечена на двенадцати медных таблицах, отчего и получила название законов «Двенадцати таблиц». Что ж мы находим в единственном за всю историю Римской республики общеправовом уложении?
О, мы находим весьма подробно расписанные процедуры судопроизводства. И, конечно же, наказания: кого, чем, сколько раз и по каким местам бить за то или иное правонарушение. Еще более подробно расписано правовое регулирование имущественных отношений, вплоть до того, можно ли употреблять в пищу желуди, нападавшие с соседнего участка, или же это собственность соседа? К чести римского правосудия, Закон №10, начертанный на 7-й Таблице, разрешал съедать желуди, упавшие с соседского дерева на твой участок. Равно, как и пользоваться урожаем с дерева, которое ветром было с соседского участка склонено на твой.
То есть, уголовные преступления и имущественные споры новым сводом законов решались на раз. Еще лучше обстояло дело с долговым законодательством. Третью Таблицу, посвященную долговым разборкам, нужно приводить всю. Чтобы стало понятно, какая судьба ожидала народ Рима, затаивший дыхание в ожидании Конституции.
Приводим:
Таблица III
1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] долга или после постановления [против него] судебного решения.
2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку [на должника]. Пусть ведет его на судоговорение [для исполнения решения].
3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного решения, и никто не освободил его от ответственности при судоговорении, пусть [истец] ведет его к себе и наложит на него колодки или оковы весом не менее, а, если пожелает, то и более 15 фунтов.
4. [Во время пребывания в заточении должник], если хочет, пусть кормится за свой собственный счет. Если же он не находится на своем содержании, то пусть [тот, кто держит его в заточении,] выдает ему по фунту муки в день, а при желании может давать и больше.
5. Тем временем, [т. е. пока должник находился в заточении], он имел право помириться [с истцом], но если [стороны не мирились, то [такие должники] оставались в заточении 60 дней. В течение этого срока их три раза подряд в базарные дни приводили к претору на комициум и [при этом] объявлялась присужденная с них сумма денег. В третий базарный день они предавались смертной казни или поступали в продажу за границу, за Тибр.