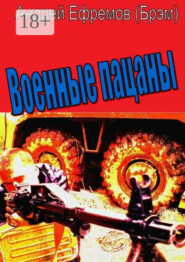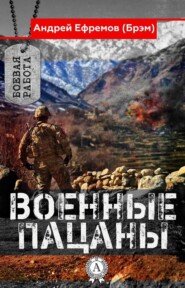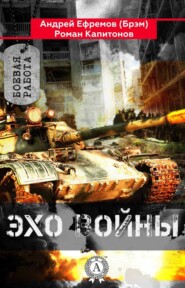По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мистическая Якутия. Рассказы и повести
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Где огонь, Гриша? – у кровати стояли не на шутку встревоженные мать с молодой кухаркой Евдокией, – Опять что-то страшное приснилось?
– А? Где я?!
– Дома ты, Гриша. Уже с месяц как дома, сынок.
– Прости, мама… – Григорий, тряхнув чёрными кудрями, откинул одеяло в сторону, сел, – Дымом что-то пахнет.
– Да это соседи с вечера печку затопили, Гриша. Чего это они? Вроде лето на дворе. Евдокия, закрой окно, в самом-то деле – сюда затягивает! Спи, сынок, спи…
Мать нежно погладила сына по плечу, на выходе из комнаты Евдокия быстро глянула на молодого хозяина странным взглядом, и обе вышли из комнаты…
– Покоя не можешь найти, Григорий Павлович?
Гриша обернулся. Кухарка, раскидывая овёс перед толкущимися под ногами, кудахчущими курицами, смотрела на него тем же странным взглядом, что и ночью.
Сунув руки в карманы, Григорий ответил:
– А с чего это у меня покоя нет, Евдокия?
– Так ведь Настя к другому ушла, пока вы, Григорий Павлович, войну воевали!
Вроде не шутит, взгляд серьёзный. Или намекает на что? Руки в карманах сжались в кулаки:
– Твоё какое дело?
– Так ведь жалко мне вас, места себе не находите.
– Ты, Евдокия, знай – курей да свиней корми, а в своих делах я сам разберусь!
– Револьвертом? – несмотря на полуденную жару, почудилось, будто всего обдало холодом – «откуда она знает?», – Такие дела оружием не делаются, Григорий Павлович!
– Да пошла ты!..
Уже находясь на крыльце дома, услышал:
– Я зла не держу. Ежели что, подходите, завсегда подмогну…
Тяжелее ночных кошмаров о войне, терзавших его ночь через ночь, стало известие – Настя не дождалась, ушла к другому. «Другой» – это сын известного в городе купца Онуфриева – Иннокентий.
Каждый вечер перед сном, сидя на кровати, Гриша долго и бессмысленно крутил барабан револьвера об предплечье. Устремив пустой взгляд в никуда, отставной прапорщик рисовал в своём воображении картины страшной мести. Вот поздним вечером, дождавшись молодожёнов с прогулки, он хладнокровно убивает их на пороге собственного дома. Бах! Бах! Два выстрела – в упор. А вот, ворвавшись ночью в их комнату, застает в исподнем в постели и стреляет, стреляет, стреляет!.. Стреляет до тех пор, пока не закончатся патроны в барабане, а курок не начинает щёлкать вхолостую как в той безумной атаке..
Курва! Курва, мать ее…
Ишь, проходит мимо под ручку с Кешкой, не замечает, глаза отводит! А ведь какие слова жаркие говорила, когда на войну провожала: и – люблю, и жить без тебя, миленький, не смогу… Баба гулящая!
Да, гулящая!
Одно слово – баба! Бабам верить нельзя!..
Хотя Евдокия – тоже баба. А про нее странные вещи говорят. Мол словом тайным владеет, креста на теле не носит и всякое может.
Мать Григория от этих слухов всегда отмахивалась: Евдокия работящая, и семье вреда от неё нет и не было. А то, что в церковь по воскресеньям не ходит, так это от того, что работы по хозяйству невпроворот. Наговаривают люди…
Поначалу Григорий и сам так думал. Двадцатый век: паровозы, телеграф, аэропланы, а суеверия – средневековые… А вот теперь, после давешнего разговора всякое в голову лезут. Вдруг не наговаривают? Отчего-то люди её невзлюбили…
Да ну её, взбредёт же в голову!
…Настя.
Григорий прекратил хрустеть барабаном, сунул револьвер под матрац – нужно поспать. Только сон не шёл. Белые ночи, белая луна.
Гриша встал, задёрнул тяжёлые бархатные шторы, в комнате стало темней. Прошел, наверное, час. Может и два. Теперь не давал покоя интимный мужской физиологический процесс: когда-то в среде молодёжи гуляла тетрадь ссыльного социалиста Залевского с пародиями на восточные сказки, где особой изюминкой в его похабных рассказах были такие слова как «перси», «нефритовый стержень» и что-то про «бутон прекрасного цветка». Когда на молодёжных вечеринках студенты вслух это читали, гимназистки густо краснели, смущались и фыркали. Тем не менее, слушали, с плохо скрываемым интересом. Позже, говорят, церковь предала этого Залевского анафеме – запретили причащаться, но социалист только радовался: его рукопись студенты стали размножать и распространять с куда большим рвением. Даже в семинарию одна такая тетрадь попала.
Вот этот самый «нефритовый стержень» при воспоминании о Настиных «персях» и не давал покоя. А уж то, что обильный нектар с бутона сейчас – возможно даже в сию минуту, своим осиным жалом снимает Иннокентий – попросту ввергало в бешенство.
Под утро он заснул, но вышло только хуже.
Мука-мучение: опять эти картинки с противогазами! Кажется, Настю в противогазе увидел: она стояла на бруствере вражеского окопа, и ветер развевал подол её большого жёлтого платья. Ветер дул в его сторону, и подол платья стал напоминать огромное страшное облако грозящее смертью, а на поле боя – полуистлевшие тела его солдат.
Вот ведь бесовщина…
Проснувшись, Григорий долго лежал с открытыми глазами. Затем натянул брюки, откинул портьеру в сторону и вымахнул в окно. Встал босиком посреди двора, наслаждаясь ночной прохладой.
У ворот громыхнул тяжелой цепью пёс, приветливо замахал хвостом.
– Не спится, Григорий Павлович?
От неожиданности Гриша вздрогнул – в раскрытое окно на него пристально смотрела Евдокия.
– Жалко мне вас, Гриша…
Ругаться не хотелось.
– Да, уснуть не могу, – молодой человек подошёл к окну кухарки, – отвык я от белых ночей.
– Ага, в Якутске оно завсегда так, летом-то.
– В Петербурге летом так же.
– Да? Вот ведь чудные дела, это ж где Питербурх, а где ж мы!
Гриша смутно понимал, что Евдокия от него не любовных утех ждет, а действительно хочет помочь. Только от этой помощи тоже веяло чем-то люто страшным и жутким. Но разве его собственные мысли менее страшны?
– Что ты мне хотела сказать?
Григорий понял, зачем он выскочил в окно – он решился!
Евдокия, кажется, только того и ждала:
– А? Где я?!
– Дома ты, Гриша. Уже с месяц как дома, сынок.
– Прости, мама… – Григорий, тряхнув чёрными кудрями, откинул одеяло в сторону, сел, – Дымом что-то пахнет.
– Да это соседи с вечера печку затопили, Гриша. Чего это они? Вроде лето на дворе. Евдокия, закрой окно, в самом-то деле – сюда затягивает! Спи, сынок, спи…
Мать нежно погладила сына по плечу, на выходе из комнаты Евдокия быстро глянула на молодого хозяина странным взглядом, и обе вышли из комнаты…
– Покоя не можешь найти, Григорий Павлович?
Гриша обернулся. Кухарка, раскидывая овёс перед толкущимися под ногами, кудахчущими курицами, смотрела на него тем же странным взглядом, что и ночью.
Сунув руки в карманы, Григорий ответил:
– А с чего это у меня покоя нет, Евдокия?
– Так ведь Настя к другому ушла, пока вы, Григорий Павлович, войну воевали!
Вроде не шутит, взгляд серьёзный. Или намекает на что? Руки в карманах сжались в кулаки:
– Твоё какое дело?
– Так ведь жалко мне вас, места себе не находите.
– Ты, Евдокия, знай – курей да свиней корми, а в своих делах я сам разберусь!
– Револьвертом? – несмотря на полуденную жару, почудилось, будто всего обдало холодом – «откуда она знает?», – Такие дела оружием не делаются, Григорий Павлович!
– Да пошла ты!..
Уже находясь на крыльце дома, услышал:
– Я зла не держу. Ежели что, подходите, завсегда подмогну…
Тяжелее ночных кошмаров о войне, терзавших его ночь через ночь, стало известие – Настя не дождалась, ушла к другому. «Другой» – это сын известного в городе купца Онуфриева – Иннокентий.
Каждый вечер перед сном, сидя на кровати, Гриша долго и бессмысленно крутил барабан револьвера об предплечье. Устремив пустой взгляд в никуда, отставной прапорщик рисовал в своём воображении картины страшной мести. Вот поздним вечером, дождавшись молодожёнов с прогулки, он хладнокровно убивает их на пороге собственного дома. Бах! Бах! Два выстрела – в упор. А вот, ворвавшись ночью в их комнату, застает в исподнем в постели и стреляет, стреляет, стреляет!.. Стреляет до тех пор, пока не закончатся патроны в барабане, а курок не начинает щёлкать вхолостую как в той безумной атаке..
Курва! Курва, мать ее…
Ишь, проходит мимо под ручку с Кешкой, не замечает, глаза отводит! А ведь какие слова жаркие говорила, когда на войну провожала: и – люблю, и жить без тебя, миленький, не смогу… Баба гулящая!
Да, гулящая!
Одно слово – баба! Бабам верить нельзя!..
Хотя Евдокия – тоже баба. А про нее странные вещи говорят. Мол словом тайным владеет, креста на теле не носит и всякое может.
Мать Григория от этих слухов всегда отмахивалась: Евдокия работящая, и семье вреда от неё нет и не было. А то, что в церковь по воскресеньям не ходит, так это от того, что работы по хозяйству невпроворот. Наговаривают люди…
Поначалу Григорий и сам так думал. Двадцатый век: паровозы, телеграф, аэропланы, а суеверия – средневековые… А вот теперь, после давешнего разговора всякое в голову лезут. Вдруг не наговаривают? Отчего-то люди её невзлюбили…
Да ну её, взбредёт же в голову!
…Настя.
Григорий прекратил хрустеть барабаном, сунул револьвер под матрац – нужно поспать. Только сон не шёл. Белые ночи, белая луна.
Гриша встал, задёрнул тяжёлые бархатные шторы, в комнате стало темней. Прошел, наверное, час. Может и два. Теперь не давал покоя интимный мужской физиологический процесс: когда-то в среде молодёжи гуляла тетрадь ссыльного социалиста Залевского с пародиями на восточные сказки, где особой изюминкой в его похабных рассказах были такие слова как «перси», «нефритовый стержень» и что-то про «бутон прекрасного цветка». Когда на молодёжных вечеринках студенты вслух это читали, гимназистки густо краснели, смущались и фыркали. Тем не менее, слушали, с плохо скрываемым интересом. Позже, говорят, церковь предала этого Залевского анафеме – запретили причащаться, но социалист только радовался: его рукопись студенты стали размножать и распространять с куда большим рвением. Даже в семинарию одна такая тетрадь попала.
Вот этот самый «нефритовый стержень» при воспоминании о Настиных «персях» и не давал покоя. А уж то, что обильный нектар с бутона сейчас – возможно даже в сию минуту, своим осиным жалом снимает Иннокентий – попросту ввергало в бешенство.
Под утро он заснул, но вышло только хуже.
Мука-мучение: опять эти картинки с противогазами! Кажется, Настю в противогазе увидел: она стояла на бруствере вражеского окопа, и ветер развевал подол её большого жёлтого платья. Ветер дул в его сторону, и подол платья стал напоминать огромное страшное облако грозящее смертью, а на поле боя – полуистлевшие тела его солдат.
Вот ведь бесовщина…
Проснувшись, Григорий долго лежал с открытыми глазами. Затем натянул брюки, откинул портьеру в сторону и вымахнул в окно. Встал босиком посреди двора, наслаждаясь ночной прохладой.
У ворот громыхнул тяжелой цепью пёс, приветливо замахал хвостом.
– Не спится, Григорий Павлович?
От неожиданности Гриша вздрогнул – в раскрытое окно на него пристально смотрела Евдокия.
– Жалко мне вас, Гриша…
Ругаться не хотелось.
– Да, уснуть не могу, – молодой человек подошёл к окну кухарки, – отвык я от белых ночей.
– Ага, в Якутске оно завсегда так, летом-то.
– В Петербурге летом так же.
– Да? Вот ведь чудные дела, это ж где Питербурх, а где ж мы!
Гриша смутно понимал, что Евдокия от него не любовных утех ждет, а действительно хочет помочь. Только от этой помощи тоже веяло чем-то люто страшным и жутким. Но разве его собственные мысли менее страшны?
– Что ты мне хотела сказать?
Григорий понял, зачем он выскочил в окно – он решился!
Евдокия, кажется, только того и ждала: