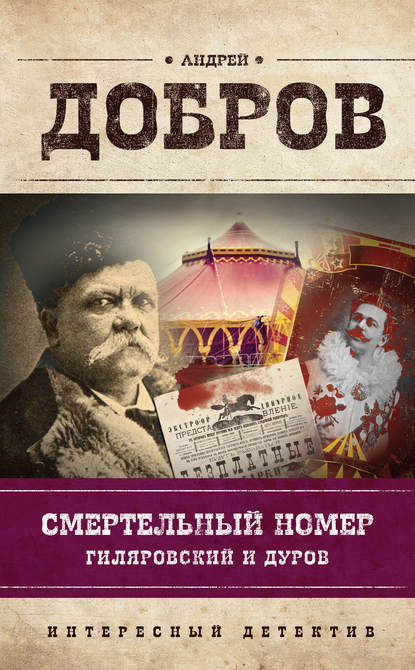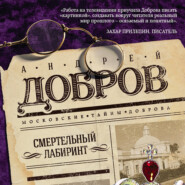По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смертельный номер. Гиляровский и Дуров
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, – покачал головой Дуров, – профессии, конечно, разные, однако каждый из нас старается использовать в своих выступлениях что-то новое. Часто – из смежных цирковых профессий. И это не так уж и сложно, потому что в юности многие из нас пробовались и в клоунаде, и в дрессуре, и в иллюзионе.
– Вы тоже?
– Да. Я и сейчас совмещаю клоунаду и дрессуру. И некоторые навыки иллюзиониста. Видите ли, я дрессирую животных без привычной для цирка жестокости – в основном используя их рефлексы.
– Рефлексы?
– Да! Это очень интересно, и я могу рассказывать часами о рефлексах, тем более что вы как раз не принадлежите к миру современного цирка, так что можно не бояться за свои секреты.
Он добродушно улыбнулся в усы – впервые с нашей вчерашней встречи.
– Очень часто я держу в руке угощение для своего четвероногого артиста. Он выполняет трюк и получает его, но зритель не должен этого видеть – для него животное должно быть как бы разумно само по себе. То есть я использую манипуляцию – и не только таким простейшим образом.
– Понятно. Так что Гамбрини?
– Артур начал распускать слух, что это я рисовал череп и кости – он будто бы застал меня за этим занятием. Ложь, конечно, бред! Но я имел несколько весьма энергичных разговоров с артистами. И даже с самим Саламонским.
– Так что случилось на представлении?
Дуров пожал плечами:
– Непонятно. Перед началом Артур по своей привычке лег вздремнуть в гримерной на кушетку. Так он сказал. Он обычно спит полчаса, для того чтобы освежить силы. Проснулся от сильного запаха паленого волоса и с криком «Пожар!» выскочил в общий коридор.
– Действительно был пожар?
– Нет. Большого пожара не было. Хватило ведра воды. Похоже, что от сквозняка свечка упала со стола и подожгла кушетку. Но Артур уверял, будто это было покушение – его собирались сжечь. И будто бы череп с костями имел к этому прямое отношение.
– А в тот вечер кто-нибудь погиб? – спросил я.
– Никто больше не погиб. И череп больше никогда не появлялся на афише. Вплоть до вчерашнего вечера.
– Так-так… – задумчиво пробормотал я, – все это очень странно. А главное, последний случай вообще не похож на попытку убийства. Впрочем, и первые два – тоже. Ведь если бы не череп на афише – показались бы вам эти смерти настолько странными?
Дуров отодвинул пустую чашку и пожал плечами.
– Конечно. Артисты не погибают так часто. Хотя, должен признаться, в каждом случае смерть выглядит случайной, не преднамеренной. А в случае с Гамбрини я вообще сомневаюсь…
– Думаете, это не было поджогом? – спросил я.
Дуров снова пожал плечами.
– Знаете, – сказал я, – я более чем уверен, что на Гамбрини никто не покушался.
– Почему?
– Нет никакой логики. Давайте предположим, что некто действительно устраивает смертельные номера другим артистам, предварительно извещая их и публику нарисованным на афише черепом. Гибель происходит на арене, при стечении публики. А кушетка Гамбрини загорелась в гримерной, далеко от взглядов публики. Да еще и задолго до начала представления. Не так ли?
– Так. Но почему третий череп не закончился гибелью артиста?
– Не понимаю, – признался я.
– В любом случае, – сказал Дуров, – увидев вчера этот знак на афише, Гамбрини почему-то решил, что кошмар пятилетней давности вернулся. Видимо, его мозг попал в старую колею, и он снова подозревает меня. Опять ходит и распускает самые дурацкие слухи. Слава богу, теперь в них никто не верит. Но мне бы не хотелось, чтобы история вышла за пределы цирка – одно дело артисты, которые хорошо помнят обстоятельства той истории. А совсем другое – московская публика, которая любую глупость подхватит, раздует и так извратит, что мне потом придется бежать в провинцию и скитаться там по шапито. И это сейчас! Когда я… впрочем, это неважно, – осекся Дуров.
– Я дал вам слово молчать, пока не разберусь в этом деле, – сказал я, – но все остальные репортеры такого слова не давали. Так что, если нынешний череп – не шутка, не озорство подростка, если действительно произойдет несчастный случай или, не дай бог, убийство, гарантировать вам молчание прессы я не смогу.
– Что же делать! – с горечью воскликнул Дуров так громко, что на нас оглянулись половые.
– Ну, для начала я хочу познакомиться с Гамбрини. У меня есть сомнения на его счет.
– Какие?
– Всему свое время. Где я могу его найти?
Дуров пояснил мне, что Гамбрини обычно репетирует на своей квартире, куда он не пускает никого. Но сегодня вечером он выступает в «Новом Эрмитаже» на Каретной.
Кажется, я оставил Дурова в состоянии полной подавленности и отправился в аптеку за зубным порошком. Про керосин я, конечно же, совершенно забыл.
3
Концерт в Эрмитаже
Этим же вечером я отправился на угол Петровки и Каретной. Конечно, «Новый Эрмитаж» не шел ни в какое сравнение с Эрмитажем старым, который располагался в восьмидесятые на Самотеке – с его прудами, садами и фантастическими декорациями Лентовского – ныне совершенно разоренного и угасающего старика. Эрмитаж новый был много меньше по размерам и скромней по оформлению. Открыл его всего шесть лет назад Яков Васильевич Щукин, и от былого парка он заимствовал, пожалуй, только имя. Впрочем, и в новом парке было чем гордиться – в первую очередь, конечно, зданием Народного общедоступного театра, того самого, в котором пару лет назад я пережил незабываемые минуты, наблюдая Шаляпина в роли Бориса Годунова! Но этим вечером я шел не в театр, а в расположенный поблизости ресторан, где Щукин организовал сборный концерт, включавший и выступление «знаменитого итальянского иллюзиониста Артуро Гамбрини». Публики, впрочем, было немного – москвичи перед Рождеством спешили доделать свои дела. Меня посадили за столик неподалеку от эстрады, украшенной живыми цветами и небесно-голубым задником с изображением почему-то итальянского побережья. Заказав котлету по-киевски, картошку с лисичками и небольшой графинчик водки, я лениво наблюдал за начинающей певицей N, выступавшей недурно, но старавшейся привлечь внимание публики скорее глубиной и насыщенностью своего декольте, чем голоса.
Девицу сменили американские индейцы с песнями и плясками своей родины. Одетые в перья и бусы, они завывали дикими голосами и плясали, как пьяные извозчики. Впрочем, возможно они и действительно были пьяны – эта труппа краснокожих месяц назад приехала с гастролями в Москву из Санкт-Петербурга, куда их занесла кривая гастрольная дорожка. В Первопрестольной они поначалу произвели фурор, а потом индейцев растащили по кабакам разные любители экзотики, приучили их пить горькую – труппа теперь собиралась только чтобы заработать немного денег на выпивку. Говорили, что скоро у них кончатся паспорта и индейцам придется возвращаться домой, в Северную Америку. Впрочем, я был уверен, что не все из них снова захотят увидеть свои прерии и каньоны. Или где там ныне обретаются их несчастные племена, потесненные цивилизацией?
Зал постепенно заполнился. Только за моим столом оставались еще стулья. Но тут подошел метрдотель и спросил – не соглашусь ли я пустить за стол вновь прибывших посетителей, которым не хватило места? Он указал на пару – старика с седой округлой бородой и очень милую девочку в бежевом платье.
– Конечно, – ответил я.
Подошедший старик отодвинул стул, чтобы девочка могла сесть, а потом уселся и сам.
– Благодарю, – сказал он мне, – вот, внучка затащила. Хочет посмотреть на настоящих индейцев. Еле успели!
Девочка вытянула свою спинку в струнку, завороженно наблюдая за ужимками пьяных краснокожих. Святая невинность!
– Могу я предложить вам рюмочку? – спросил я. – Для примирения с общей атмосферой, так сказать?
– Не откажусь, – кивнул старик.
Мы чокнулись и выпили. Индейцы сели на эстраде в круг и затянули печальную протяжную песню.
– Нравятся тебе, Варя, эти индейцы? – обратился старик к девочке.
– Очень, дедушка, – не оборачиваясь, ответила та.
– Ну и хорошо.
Он повернулся ко мне.
– Вы тоже?
– Да. Я и сейчас совмещаю клоунаду и дрессуру. И некоторые навыки иллюзиониста. Видите ли, я дрессирую животных без привычной для цирка жестокости – в основном используя их рефлексы.
– Рефлексы?
– Да! Это очень интересно, и я могу рассказывать часами о рефлексах, тем более что вы как раз не принадлежите к миру современного цирка, так что можно не бояться за свои секреты.
Он добродушно улыбнулся в усы – впервые с нашей вчерашней встречи.
– Очень часто я держу в руке угощение для своего четвероногого артиста. Он выполняет трюк и получает его, но зритель не должен этого видеть – для него животное должно быть как бы разумно само по себе. То есть я использую манипуляцию – и не только таким простейшим образом.
– Понятно. Так что Гамбрини?
– Артур начал распускать слух, что это я рисовал череп и кости – он будто бы застал меня за этим занятием. Ложь, конечно, бред! Но я имел несколько весьма энергичных разговоров с артистами. И даже с самим Саламонским.
– Так что случилось на представлении?
Дуров пожал плечами:
– Непонятно. Перед началом Артур по своей привычке лег вздремнуть в гримерной на кушетку. Так он сказал. Он обычно спит полчаса, для того чтобы освежить силы. Проснулся от сильного запаха паленого волоса и с криком «Пожар!» выскочил в общий коридор.
– Действительно был пожар?
– Нет. Большого пожара не было. Хватило ведра воды. Похоже, что от сквозняка свечка упала со стола и подожгла кушетку. Но Артур уверял, будто это было покушение – его собирались сжечь. И будто бы череп с костями имел к этому прямое отношение.
– А в тот вечер кто-нибудь погиб? – спросил я.
– Никто больше не погиб. И череп больше никогда не появлялся на афише. Вплоть до вчерашнего вечера.
– Так-так… – задумчиво пробормотал я, – все это очень странно. А главное, последний случай вообще не похож на попытку убийства. Впрочем, и первые два – тоже. Ведь если бы не череп на афише – показались бы вам эти смерти настолько странными?
Дуров отодвинул пустую чашку и пожал плечами.
– Конечно. Артисты не погибают так часто. Хотя, должен признаться, в каждом случае смерть выглядит случайной, не преднамеренной. А в случае с Гамбрини я вообще сомневаюсь…
– Думаете, это не было поджогом? – спросил я.
Дуров снова пожал плечами.
– Знаете, – сказал я, – я более чем уверен, что на Гамбрини никто не покушался.
– Почему?
– Нет никакой логики. Давайте предположим, что некто действительно устраивает смертельные номера другим артистам, предварительно извещая их и публику нарисованным на афише черепом. Гибель происходит на арене, при стечении публики. А кушетка Гамбрини загорелась в гримерной, далеко от взглядов публики. Да еще и задолго до начала представления. Не так ли?
– Так. Но почему третий череп не закончился гибелью артиста?
– Не понимаю, – признался я.
– В любом случае, – сказал Дуров, – увидев вчера этот знак на афише, Гамбрини почему-то решил, что кошмар пятилетней давности вернулся. Видимо, его мозг попал в старую колею, и он снова подозревает меня. Опять ходит и распускает самые дурацкие слухи. Слава богу, теперь в них никто не верит. Но мне бы не хотелось, чтобы история вышла за пределы цирка – одно дело артисты, которые хорошо помнят обстоятельства той истории. А совсем другое – московская публика, которая любую глупость подхватит, раздует и так извратит, что мне потом придется бежать в провинцию и скитаться там по шапито. И это сейчас! Когда я… впрочем, это неважно, – осекся Дуров.
– Я дал вам слово молчать, пока не разберусь в этом деле, – сказал я, – но все остальные репортеры такого слова не давали. Так что, если нынешний череп – не шутка, не озорство подростка, если действительно произойдет несчастный случай или, не дай бог, убийство, гарантировать вам молчание прессы я не смогу.
– Что же делать! – с горечью воскликнул Дуров так громко, что на нас оглянулись половые.
– Ну, для начала я хочу познакомиться с Гамбрини. У меня есть сомнения на его счет.
– Какие?
– Всему свое время. Где я могу его найти?
Дуров пояснил мне, что Гамбрини обычно репетирует на своей квартире, куда он не пускает никого. Но сегодня вечером он выступает в «Новом Эрмитаже» на Каретной.
Кажется, я оставил Дурова в состоянии полной подавленности и отправился в аптеку за зубным порошком. Про керосин я, конечно же, совершенно забыл.
3
Концерт в Эрмитаже
Этим же вечером я отправился на угол Петровки и Каретной. Конечно, «Новый Эрмитаж» не шел ни в какое сравнение с Эрмитажем старым, который располагался в восьмидесятые на Самотеке – с его прудами, садами и фантастическими декорациями Лентовского – ныне совершенно разоренного и угасающего старика. Эрмитаж новый был много меньше по размерам и скромней по оформлению. Открыл его всего шесть лет назад Яков Васильевич Щукин, и от былого парка он заимствовал, пожалуй, только имя. Впрочем, и в новом парке было чем гордиться – в первую очередь, конечно, зданием Народного общедоступного театра, того самого, в котором пару лет назад я пережил незабываемые минуты, наблюдая Шаляпина в роли Бориса Годунова! Но этим вечером я шел не в театр, а в расположенный поблизости ресторан, где Щукин организовал сборный концерт, включавший и выступление «знаменитого итальянского иллюзиониста Артуро Гамбрини». Публики, впрочем, было немного – москвичи перед Рождеством спешили доделать свои дела. Меня посадили за столик неподалеку от эстрады, украшенной живыми цветами и небесно-голубым задником с изображением почему-то итальянского побережья. Заказав котлету по-киевски, картошку с лисичками и небольшой графинчик водки, я лениво наблюдал за начинающей певицей N, выступавшей недурно, но старавшейся привлечь внимание публики скорее глубиной и насыщенностью своего декольте, чем голоса.
Девицу сменили американские индейцы с песнями и плясками своей родины. Одетые в перья и бусы, они завывали дикими голосами и плясали, как пьяные извозчики. Впрочем, возможно они и действительно были пьяны – эта труппа краснокожих месяц назад приехала с гастролями в Москву из Санкт-Петербурга, куда их занесла кривая гастрольная дорожка. В Первопрестольной они поначалу произвели фурор, а потом индейцев растащили по кабакам разные любители экзотики, приучили их пить горькую – труппа теперь собиралась только чтобы заработать немного денег на выпивку. Говорили, что скоро у них кончатся паспорта и индейцам придется возвращаться домой, в Северную Америку. Впрочем, я был уверен, что не все из них снова захотят увидеть свои прерии и каньоны. Или где там ныне обретаются их несчастные племена, потесненные цивилизацией?
Зал постепенно заполнился. Только за моим столом оставались еще стулья. Но тут подошел метрдотель и спросил – не соглашусь ли я пустить за стол вновь прибывших посетителей, которым не хватило места? Он указал на пару – старика с седой округлой бородой и очень милую девочку в бежевом платье.
– Конечно, – ответил я.
Подошедший старик отодвинул стул, чтобы девочка могла сесть, а потом уселся и сам.
– Благодарю, – сказал он мне, – вот, внучка затащила. Хочет посмотреть на настоящих индейцев. Еле успели!
Девочка вытянула свою спинку в струнку, завороженно наблюдая за ужимками пьяных краснокожих. Святая невинность!
– Могу я предложить вам рюмочку? – спросил я. – Для примирения с общей атмосферой, так сказать?
– Не откажусь, – кивнул старик.
Мы чокнулись и выпили. Индейцы сели на эстраде в круг и затянули печальную протяжную песню.
– Нравятся тебе, Варя, эти индейцы? – обратился старик к девочке.
– Очень, дедушка, – не оборачиваясь, ответила та.
– Ну и хорошо.
Он повернулся ко мне.