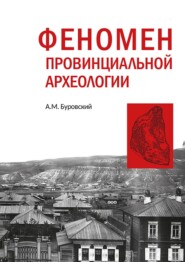По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Холод древних курганов. Аномальные зоны Сибири
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так что и в Красноярске все знали, конечно же, кто входит в разбойничье подполье, кто собирается и где, в котором часу, с какой целью. Знала и полиция, естественно, но вот мер никаких не принимала. Фактически кружки действовали легально – всем, и полиции в том числе, или было совершенно наплевать, что дико нарушается закон, или же люди, скажем так, не имели ничего против безумия.
Колька, начиная с зимы 1916 года, все активнее ходил в нелегальный марксистский кружок. Чем хуже шли его дела в училище, чем чаще он стоял в углу, тем активнее Колька занимался политикой. Ах, как ему нравился марксизм! То есть читать Маркса, Энгельса, Каутского и Ленина ему не нравилось… А вот обсуждать сочинения классиков и гениев – это очень даже нравилось! Парадокс в том, что чтение это очень уж напоминало учение в училище, даже в чем-то злополучный немецкий язык. А вот обсуждение уж точно ни к чему не обязывало. Тем более – чем более злобно «обсуждал» произведение Колька, тем получалось лучше и тем серьезнее принимали его взрослые члены кружка. Колька скоро приноровился – брал книги вроде бы почитать, но читал лишь минимум, чтобы потом лучше обсуждать. Нравился ему и хозяин дома, руководитель кружка Яша Вейнгартен, часовщик и большой теоретик, строитель будущего общества с двумя классами гимназии: сочувствующий человек, понимающий.
– А при социализме… При ем никаких гимназий не будет? Вообще? – спрашивал Колька с замиранием сердца, очень боясь ответа, что при социализме не будет этих гимназий, но будут какие-то другие… Но Яша отвечал все правильно:
– Сколько раз тебе говорить… Учиться – это буржуйство сплошное, не надо это никому на хрен. Гимназия – это погибель пролетариата, сплошное вырождение великих идей и мелкобуржуазное загнивание.
Вейнгартен доходчиво рассказывал, как в Могилевской гимназии его ловили контрреволюционные элементы при попытках экспроприировать часть их денежных средств: ведь эти средства были у них явно избыточными, ненужными, они были похищены у трудового народа если не самими гимназистами, то их папами. А эти дикари, представьте себе, ловили Вейнгартена и били его, несчастного страдальца за интересы борющегося пролетариата!
Трудно сказать, марксизм ли тут подействовал, или эти рассказы Вейнгартена, но только Колька повадился еще и воровать. Папа-Сорокин уже почти простил непутевого сына за то, что он боролся с клерикальным мракобесием и феодальной реакцией, вступил в прогрессивный кружок. Даже двойки по немецкому языку мог папа простить за революционную идеологию, но уж никак не воровство. Воровства папа стерпеть уже органически был не способен, марксизм там или не марксизм, и опять Колька садился на самый краешек парты.
Какое-то время своей жизни он буквально цепенел, стоило папе посмотреть на него леденящим взглядом василиска и пошевелить нафабренными усами. После того как Колька спер и сожрал три фунта шоколаду у собственной бабушки, папа отделал его так, что Колька даже с перепугу выучил немецкие слова: «дас фенстер», что означает – окно, и «дер тышь», что означает стол. Учитель немецкого языка прослезился от умиления и поставил Кольке долгожданную «тройку», а папа задумчиво произнес «Гм…». В его оловянных, навыкате, глазах Колька прочел свой приговор: если уж от одной порки сын начал учиться, так тут перед папой вырисовывалась задача – ни в коем случае не ослаблять усилий…
Но время работало на Кольку, а не на почтенного чиновника, «ученого агронома» Николая Николаевича. В начале 1917 года, когда дело шло явно к революции, ни один самый отпетый сатрап не посмел бы поднять руку на прогрессивного, революционного мальчика. Где-то в феврале 1917 года Колька первый раз полез на трибуну, выступил на митинге… Внизу лепились лица – бородатые лица взрослых казаков, чистые лица девушек, серьезные лица взрослых, солидных людей… Колька знал, что должен сказать что-то важное для всех этих людей… что-то такое, что увлечет, поведет за собой каждого из них. Что говорить?! Идут минуты, летят тучи по небу, ждут запрокинутые лица внизу, под трибуной. И, выбросив правую руку, Колька картинно махнул шапкой над толпой:
– Долой родителей! Довольно они пили нашу кровь![2 - Подлинный случай, даже повторявшийся несколько раз. С лозунгом «Долой родителей! Довольно они пили нашу кровь!» выступал, в частности, Григорий Евсеевич (Аронович) Радомысльский, по матери – Апфельбаум, а по партийной кличке Зиновьев. Этот большой классик и гений марксизма, среди прочего, был одним из самых приближенных к Ленину людей. Избавления от гнета родителей он требовал в гимназиях родного Елизаветграда, с 1924-го по 1934 год носившего имя «Зиновьевск».]
Взревела, заорала толпа, вскинула руки в согласии. Действительно, ну сколько они могут пить нашу кровь?! Долой! Долой!
Оглушенный, опьяненный этим ревом, Колька опять выбрасывает вперед руку:
– Долой гимназии! Долой учителей немецкого!
– Ура-ааа! – орали обыватели.
– Долой! – орали гимназистки, растопляя сердце Коли Сорокина.
После такого головокружительного успеха на митинге Колька мог быть совершенно уверен – папа его выдрать не посмеет.
Времена наступали страшненькие, и страшненькие люди собирались в городе, возвращались с каторги и бежали из ссылок. Самый приличный из них был, пожалуй, Адольф Густавович Перенсон – он по крайней мере имел профессию военного врача, а на каторгу попал за участие в кронштадтском восстании 1909 года, потом отбывал ссылку в Енисейской губернии.
Остальные же были людьми двух типов… Одни – вроде Якова Ефимовича Бограда, который со времени обучения в одесской гимназии стал революционером и больше никогда ничем не занимался. Такими же были и Григорий Спиридонович Вейнбаум, ушедший из Петербургского университета, и Яков Федорович Дубровинский, и Ада Павловна Лебедева, и Тихон Павлович Марковский: люди, чем-то неуловимо похожие на самого Кольку Сорокина.
Немного иным был Моисей Соломонович Урицкий; сын богатого сахарозаводчика, он учился на юридическом факультете Киевского университета, откуда и ушел в революцию. У него были не только революционные убеждения, у этого Урицкого! У него были и заслуги… Например, именно Урицкий 27 октября 1905 года спровоцировал драку между «левыми» рабочими и черносотенцами, причем погиб рабочий Журавлев.
Вот это был человек! И все они – вот это были люди! Колька необычайно гордился, что такие люди принимают его в свой круг, общаются с ним, доверительно интересуются его суждениями об обществе будущего, поручают ему всяческие дела – то сбегать за папиросами, то дать характеристику кому-то из контрреволюционеров.
А потом наступило событие, которое все годы существования СССР называли исключительно торжественно: триумфальное шествие советской власти. Расшатанная собственной дуростью и нерешительностью, многолетней агитацией и войной, нормальная власть окончательно развалилась; и кто кинулся ее поднимать? Тот, кто давно и сильнее всего этого хотел, разумеется. Возникло сразу много «правительств», все они одновременно грабили обывателей и враждовали друг с другом, да заодно еще с Временным правительством в Центре, где-то в Петрограде. А вот после «триумфального шествия» только одно правительство царило в оцепенелом от страха городе, творило все что угодно. Да, это было время грабежа совершенно других масштабов! И террора совершенно иных масштабов!
Кольку Сорокина большевики по-прежнему любили: очень уж интересные вещи он рассказывал про то, у кого есть и какие именно золотые и серебряные вещи, и кто какие слова раньше говорил про большевичков. Ада Лебедева очень интересовалась, какими словами определили ее в обывательской болтовне, когда она пьяная валялась по дороге на базар с задранной юбкой. Яшу Бограда крайне беспокоило, кто слыхал о его увлечении онанизмом, еще в одесские времена, а Гришу Вейнбаума волновало не меньше, слыхал ли кто-нибудь о судьбе студенческой ссудной кассы, загадочно пропавшей одновременно с его уходом в революцию.
В общем, Коля Сорокин оказался в числе весьма немногих красноярцев, которым новая власть доверяла. Обыватель трясся, старался откупиться, сохранив хотя бы жизнь себе и близким… А Колька Сорокин мог ходить по запуганному, обалдевшему городу не только свободно и вольно, но и быть как бы частицей этой власти. Вот тут переменились его с папой роли! Нет, ну как переменились, черт возьми! Колька в его шестнадцать лет небрежно кидал на стол свой паек и тем самым становился кормильцем семьи. Колька спрашивал у матери, когда ей удобнее, чтобы он привез дрова на всю зиму: завтра или послезавтра? Колька просматривал библиотеку, обнаруживал в ней сочинения контрреволюционных писателей и устраивал страшнейший скандал. Колька сталкивался со старым учителем по немецкому языку, учитель пытался было прошмыгнуть мимо, пока Колька его не заметил. Но Колька уже кивал старому знакомому, протягивал руку, и деваться старику делалось некуда.
– А помните, как вы меня на «Камчатку»[3 - «Камчаткой» называли самые задние парты, на которые сажали в наказание за незнание и нерадение.] переводили? – громогласно предавался воспоминаниям Колька, удерживая руку бывшего учителя в своей. – А как три «двойки» вкатили подряд? Я сидеть не мог тогда на вашем уроке!
Колька разражался хохотом, от которого подскакивал, колотился об пояс огромный «маузер», скрипела новенькая кожанка. Он откровенно развлекался, сколько хватало желания.
Папе он тоже объяснял, что занимался всю жизнь папа всякой ерундой, вовсе не решающей насущных забот пролетариата и беднейшего крестьянства, а призванной только маскировать классовую сущность столыпинщины. Папа же очень одряхлел, не по годам, осунулся и как-то весь вылинял. Ссутулившись, он слушал сына и не слышал. Колька задавал вопрос, уличал отца в том, что тот не слушал, и опять долго орал на него. Николай Николаевич даже не пытался оправдаться. Может быть, воплей и грубостей сына он тоже не слышал, отключался?
Страх перед Колькой возрастал тем больше, чем больше шло по городу мрачных слухов: что Колька собственноручно расстреливает за городом пойманных в городе офицеров и «заговорщиков». Приписывалось ему и участие в расстреле отца Анисима, старого священника, – тот хранил у себя, невзирая на запреты, письма одного из великих князей. Поговаривали о прямом участии Кольки в убийстве Потылицыных – супружеской пары, закопавшей на своем участке винтовку – «на всякий случай».
На самом деле единственной, кого расстрелял Колька, оказалась Зина Потылицына. Ада Лебедева давно благоволила Кольке, все хотела ему специфически «помочь». Она собственноручно раздела Зину до белья, втолкнула ее в комнату, где уже поддал спирту, закусил студнем и закурил папиросу революционер Колька Сорокин. Зина до такой степени одурела от матерщины, окриков, оплеух, угроз, что очень может быть, окажись Колька поопытней, он и смог бы ее взять без особенного труда: очень уж все на свете перемешалось в светловолосой головке этой домашней, тихой девушки, слишком уж сместилось все «можно» и «неможно».
Но Колька был слишком неопытен; нет бы ему налить Зине спирту, дать закусить и закурить, рассказать что-нибудь героически-революционное, намекнуть на зависимость судьбы родителей от ее поведения…
Колька же действовал прямолинейно; поцелуй, с которого он начал, мало отличался от заушин и окриков, а их в этот день Зина получила очень много. И, конечно же, шарахнулась от насильника. Попытка потянуть за руку, усадить на колени повлекла только судорожное сопротивление; спирт гудел в голове, звенел в ушах, разливался по всему телу мягким облегающим теплом; Колька начал сердиться всерьез, замахал «маузером» перед носом несчастной Зины.
– Ты… Ты контрреволюционный эл-лемент, да? Контрреволюционерка, да?! Враг народа?!
– Отпусти ты меня… Не хочу!
– А за счет труд-дового нар-рода жить (ик!) это ты х-хочешь?! Т-тебя стрелить давно надо з-за твои все д-дела н-нехорошшие…
– Ну и стреляй! Стреляй, палач!
Спирт продолжал кружить голову. Перед Колькой стояла почти совсем голая девушка с дрожащими губами, с горящими недобрым огнем глазами, бросавшая ему «стреляй, палач!». Не выстрелить – значило дать слабину, не доказать ей, что готов применять оружие всерьез. Колька навел «маузер» между глаз Зины; у девушки дрожали губы, и все равно она проорала еще что-то про «все равно не отдамся»; Колька потянул за спуск. Оружие отдало сильнее, чем он думал, а лицо девушки исчезло. Какое-то время Колька даже не очень понимал, что произошло, только через полминуты разглядел он неподвижную Зину, опаленное отверстие над ее правым глазом, извилистую струйку крови. И задохнулся, захлебнулся от жалости и отвращения пацан, разглядывая это тоненькое, еще толком не сформировавшееся тело, такое белое в сравнении с кожей его, Кольки, рук, такое отличное от его собственного и такое желанное.
В эту ночь он напился до полного забвения окружающего (что и намеревался сделать) и ужасно чувствовал себя наутро. Товарищи по партии опохмелили Кольку, объяснили ему, что все это полная ерунда и что если психовать из-за каждой неуступчивой девки, то никакого коммунизма не построишь. Колька слушал советы старших товарищей, пил и приходил в себя, но это преступление оставалось единственным, которое он совершил собственноручно. Что интересно – именно этого убийства Кольке вовсе и не приписали в городе, но зато приписали убийство родителей Зины, к которому он не имел ни малейшего отношения.
А дальше запахло все-таки чем-то хорошим… К лету 1918 года наши все-таки подвинулись к городу, большевики кинулись бежать. Бежать, конечно же, не просто так, а прихватывая с собой все, что только удавалось прихватить.
Не так давно в Красноярске вышла книга, в которой некий Бугаев[4 - Бугаев Д. А. На службе милицейской. Книга первая. 1917–1925 гг. Часть первая. Красноярск, 1993. С. 165.] описывает, как «наши», в смысле – «ихние», конечно же, собираясь драпать после падения советской власти в Красноярске, подчистую грабили город. Среди всего прочего упоминается и момент, когда «ихние» явились в сплавную контору, возглавляемую К. И. Ауэрбахом… Золота они там не нашли – его уже успели спрятать, потому что даже добрый, спокойный К. И. Ауэрбах к тому времени начал понимать, с кем он имеет дело. Взяли «только» то золото, которое принадлежало лично К. И. Ауэрбаху, порядка полутора пудов. К сожалению, мы живем в эпоху, когда признание в соучастии в преступлениях сходят с рук.
Ну вот, награбив золота побольше, коммунисты рванули на север, и, конечно же, с ними и Колька. Это был, наверное, самый юный беглец на пароходе, везущем большевицкое золото на север, к морю – туда, где есть шанс сбежать с награбленным за границу. И тут, на этом пароходе, пришел конец бедному Кольке: парень наклонился, свесился за борт посмотреть, как работает в воде колесо, да и свалился за борт… Все-таки Колька оставался просто самым обыкновенным подростком!
Разумеется, никто и не подумал остановиться, спустить на воду спасательные шлюпки. Ширина Енисея в этом месте никак не меньше двух километров, и до ближайшего берега – порядка метров 800 в очень холодной, очень быстрой воде. Разумеется, Колька не выплыл. Есть и такая версия, что свалился он прямо перед самым колесом, и лопасть колеса – деревянная плаха толщиной сантиметров в восемь – обрушилась на него уже в воде. Во всяком случае, с этого дня, как принято говорить, «Кольку больше никто никогда не видел».
О том, что было дальше, официальная советская книжка повествует следующим образом: «Г. С. Вейнбаум по решению губисполкома вместе с группой членов губисполкома и красногвардейскими частями отступил по Енисею на пароходах в сторону Туруханска. Но колчаковцам и интервентам удалось пароходы настигнуть. Вместе с десятками других революционеров Г. С. Вейнбаум был направлен в красноярскую тюрьму. В ночь с 24-го на 25 октября, в канун первой годовщины Великого Октября, он был расстрелян вместе с соратниками на станции Красноярск, в „эшелоне смерти“ белочешских интервентов»[5 - Богданович К. В., Лопатин З. П. Красноярск. Красноярск, 1969. С. 50–51.].
Такова участь большевичков, у которых дата смерти помечена 1919 годом. У другой части год смерти 1918-й, и про них, в частности про Аду Лебедеву, рассказано: «…27 июля 1918 года при переводе с пристани в тюрьму была зверски замучена белогвардейцами вместе с Т. П. Марковским и С. Б. Печерским. Пьяные казаки выхватили их из толпы пленных, отвели на берег Качи и там зарубили»[6 - Богданович К. В., Лопатин З. П. Красноярск. Красноярск, 1969. С. 54.].
Все почти так, кроме одной, но весьма характерной детали. Моя первая учительница в той самой начальной школе № 1 Зинаида Ефимовна (фамилию забыл) рассказывала нам, четвероклассникам, в 1965 году, как жители города встречали приведенные обратно в город пароходы. «Белогвардейцы и казаки» прилагали все усилия, чтобы сохранить жизнь арестованным большевичкам – уже хотя бы для показательного процесса; а вот население города очень хотело добраться до своих мучителей как можно скорее. Кого-то войскам удалось утащить с собой, именно эти большевички на этот раз отделались плевками в морды, оплеухами и пинками. Но некоторым повезло меньше – их оттащили от кордона войск и, как выразилась Зинаида Ефимовна, «буквально растянули на части». По словам учительницы, ее мама присутствовала при этой сцене.
Я тогда был слишком мал, чтобы задать вопрос: а что делала там ее мама? Мама Зинаиды Ефимовны? Только смотрела, как жители Красноярска казнили Аду Лебедеву и прочую шушеру, или принимала в этом более активное участие? Прошло много лет, прежде чем я стал задавать себе такого рода вопросы.
А двоечник Колька Сорокин… Жаль, если это привидение исчезло навсегда и уже никогда не возникнет в здании бывшей «суриковской гимназии». Привидение это на редкость спокойное, тихое. Оно не мешает совершенно никому и никого не в силах напугать, даже самого впечатлительного человека. А вместе с тем это привидение так полезно для воспитания молодежи, так ценно, чтобы направлять современных двоечников и разгильдяев на путь добродетели, что будет особенно жалко его навсегда потерять.
Глава 3. Купцы и клады
Мертвецов всегда оставляют стеречь клады… А вдруг он как раз сейчас поднимет свой череп и что-нибудь скажет?!
М. Твен
О богатствах очень многих сибирских купцов ходили мрачные легенды – поговаривали, что начало им положено разбоем… Существовала даже своего рода методика, при которой награбленное, заляпанное человеческой кровью сокровище уже могло пойти «впрок».
Сибирские купцы, и вообще русское население Сибири, верили, что клад должен «отлежаться». Тот, кто его положил, пользоваться им не смеет. И дети его тоже не должны, а очень хорошо, чтобы не пользовались и внуки. Если дети награбившего и положившего найдут и выкопают клад, наверняка придется им плохо. От этих денег не будет им большого добра, потому что на кладе – проклятье тех, кого ограбил положивший. Четвертое поколение может пользоваться кладом без проблем. С внуками – положение неопределенное. То ли они могут пользоваться награбленным, то ли еще нет… К тому же ведь не всегда доживает человек до разумного возраста правнуков, а вот со взрослыми внуками, как правило, успевает пообщаться…
Легче всего по этому поводу фыркнуть на «суеверия отсталых людей». Но вот история купеческой семьи Матониных – история совершенно подлинная и хорошо документированная.