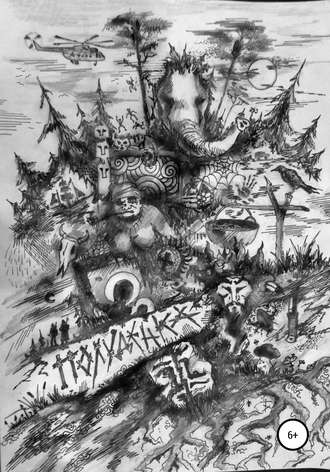
Полудёнка
Распрямив затекшие ноги, Софронов поднялся и с расстановкой ответил:
– Ты только не подумай, что мной движет классовая ненависть или плебейское желание унизить «большого человека». Я всего лишь забочусь о собственной безопасности и не собираюсь подвергать нас ненужному риску. В общем, ты понял: если приспичило – дуй в штаны. Или терпи, только честно скажу: сколько – не знаю.
И преспокойно направился обратно к Ротару, с улыбкой прислушиваясь к яростному мату олигарха, огромной смешной гусеницей извивавшегося на земле. Строго говоря, подобное отношение к противнику вряд ли можно подвести под категорию «жестокость», это было всего лишь маленьким возмездием за все то зло, что сеял вокруг себя Сенькин.
Вообще с точки зрения крестьянина понятие жестокости весьма сложно и неоднозначно. Скажем, большинство городских жителей падает в обморок, если случайно становится свидетелем процесса забоя животных. А вот деревенским ребятишкам все эти псевдогуманистические сопли подтерли еще в ясельном возрасте. И объяснили, что свинья для того и предназначена, чтобы стать холодцом, котлетами и пельменями, а жалеть ее при этом смешно, глупо и нерационально.
Впрочем, взрослые все-таки не разрешали мелким малышам смотреть на сам процесс умерщвления скотины, и позволяли подходить лишь после того, как туша борова умиротворенно замирала на снегу, «окропленном красненьким». И мальчишки, и девчонки с одинаковым любопытством глазели на то, как под бушующим пламенем паяльных ламп грязноволосая хрюшка сначала превращалась в «негритянку», а потом под воздействием кипятка и ножей вдруг становилась белоснежной чистюлей. И не было для них большего лакомства, чем кусочки гладкой хрустящей свиной шкурки, которые они тут же уплетали за обе щеки.
Но все это после, а сначала надо было успокоить и упокоить животное, и не у каждого хозяина это получалось с первого раза. Все зависело от опыта, сноровки и количества употребленной для смелости или «сугреву» водки. Иногда при этом случались форменные казусы.
Софронов прекрасно помнил тот день, когда сосед дядя Володя Степанов решил «прибрать» бычка. Он привязал его во дворе, употребил пару кружек бражки, сплюнул, а потом решительно бросился с выставленным вперед тесаком, целя несчастному в шею. Но как раз в этот момент бычок потянулся за клочком сена и доморощенный «матадор» пролетел мимо цели, больно ударившись при этом о столб. Тогда дядя Володя развернулся, получше сориентировался в пространстве и вновь ринулся к своей жертве – которая внезапно решила рассмотреть свой хвост, из-за чего «забойщик» врезался головой в поленницу. На этом комедия закончилась – его жена тетя Таня горестно покачала головой, от греха подальше отобрала у непутевого мужа нож, и увела его домой, отдыхать от трудов праведных…
Зато любо-дорого было смотреть, как работал потомственный боец дядя Леша Ковалев, Царствие ему Небесное. Он неторопливо подходил к свинье или бычку, что-то шептал в ухо, ласково поглаживал, а потом ловко доставал из-за пазухи небольшую узкую финочку и совершал незаметное глазу изящное движение – будто градусник пациенту ставил. И любая здоровенная буйная скотина как-то сразу аккуратно ложилась на землю – без рева, мычания и хрюканья. Дело сделано, можно приступать к разделке.
Когда Софронов вернулся из армии, его мама еще держала поросят, и каждый раз процесс их забоя доставлял немало хлопот. Софронов умел и любил обрабатывать и разделывать свинские туши, а вот умерщвлять их как-то не научился. Что поделаешь – издержки городского воспитания и слишком большое количество прочитанных книг Даррела, Бианки, Хэрриота и Пришвина. Поэтому каждый раз к ноябрьским праздникам он был вынужден призывать на помощь более опытного «убивца».
В очередной раз он пригласил старых знакомцев – Пашку с Юркой. Надо сказать, что оба они были притчей во языцах у всего околотка: ражие, наглые, отчаянные. Оба работали раскряжевщиками в лесопилке, оба крепко уважали спиртосодержащие жидкости, оба любили показать свою силу, удаль и бесстрашие. С хозяином договорились быстро: по литру водки и по шмату сала на брата. Ударили по рукам.
В назначенный субботний день «киллеры» явились вовремя и, что немаловажно, абсолютно трезвыми. Видимо, в глубине души ощущали важность возложенной на них миссии. Демонстрируя немногочисленным зевакам свою опытность и крутость, предъявили на обозрение целый арсенал разнообразного колюще-режущего оружия, начиная от столового хлебореза и заканчивая штык-ножом от трофейного немецкого карабина.
Наконец, подготовка к празднику – а забой скота для деревенского человека всегда является таковым – была закончена. Пашка щелчком запулил в сугроб окурок «Родопи», картинно вздыбил на затылок «стропальский» подшлемник, лихо прокрутил тесаком «восьмерочку». Юрка просто цыкнул через выбитый передний зуб, скрежетнул парой аршинных самодельных кинжалов и махнул рукой – выпускай, мол. Софронов и выпустил…
А надо сказать, в тот год хавронья у них была хороша – вымахала на сочной травке да на дармовых столовских отходах. «Киллеры» как ее увидели, так отчего-то сразу слюну стали сглатывать и лбы вытирать. Но потом ничего, собрали волю в кулак, булат навострили, друг дружку локтями подбодрили, давай, мол, братан, вали зверя! Сарынь на кичку! А затем один из них легонько уколол хрюшку кончиком ножа…
Впоследствии Софронов, давясь от хохота, не раз спрашивал у забойщиков – каким чудесным образом они умудрились с места перепрыгнуть почти двухметровый забор и куда при этом заховали свои «мечи»? Но джигиты с раскряжевки ничего не отвечали, лишь зло сверкали очами и спешили поскорее отойти в сторону. Видимо, общение с той хрюшкой осталось не самым светлым воспоминанием в их жизни.
А хавронью Софроновы все-таки прибрали, сосед-старичок помог. Поговорил с ней ласково, сунул в страшную пасть хрусткое яблочко и аккуратненько отправил в края больших луж и сладкого комбикорма…
…Похоже, боль чуточку отпустила мамонтиху, во всяком случае, прекратилась лихорадочная дрожь, сотрясавшая тело. Когда Софронов присел рядом и принялся почесывать ее за ушами-лопухами, она доверчиво прижалась к нему хоботом. А потом предложила:
– Хочешь, я покажу тебе, как мы жили раньше? Закрой глаза, расслабься и попробуй ни о чем не думать.
ЭТО накатило мгновенно, не пришлось напрягаться и куда-то там «входить». Едва он смежил веки, как в голове распахнулось какое-то «окошко» и Софронов увидел незнакомый красочный мир. Он очень напоминал привычную сибирскую тайгу, но в то же время неуловимо отличался, в первую очередь – своими размерами. Верхушки ТЕХ кедров терялись в поднебесье, травы превышали рост человека, а когда в поле внутреннего «зрения» появился исполинский лось, Софронов в испуге отшатнулся.
Но все вокруг померкло, побледнело и почтительно отступило, когда Ротару показала стадо мамонтов, куда-то бредущих по сочной изумрудно-малахитовой луговине. Впереди десятка сотоварищей вышагивал гигантский, невообразимо огромный вожак с чудовищными бивнями, которые почти касались земли. Каждый его шаг чувствительно сотрясал почву, заставляя все живое склонять голову в почтительном реверансе перед царем Ойкумены.
А последним задорно скакал мамонтенок, до ужаса похожий на Ротару. Он все время на что-то отвлекался – то начинал гоняться за птичками, шныряющими по шкурам мамонтов, то дергал за хвосты старших, то вырывал хоботом кустики и швырял их вверх, норовя попасть в кого-нибудь из соплеменников. А потом картинка вдруг стала размываться и «поплыла», словно за окном пошел сильный дождь…
Софронов открыл глаза и погладил Ротару по голове. Утвердительно произнес:
– Это была твоя семья?
Не дождавшись ответа, он тяжело вздохнул, опустил голову на грудь и задумался. А потом незаметно задремал.
Глава двадцатая
Проснулся Сафронов от нарастающего рокота вертолета, лихорадочно вскочил на ноги и схватился за карабин. На посадку заходил уже знакомый МИ-8.
Первым из салона выпрыгнул Ульян и успокаивающе махнул рукой – свои, мол, не боись. А вслед за ним наружу горохом посыпались невысокие коренастые мужички в разнокалиберной одежде – теплых малицах, застиранных энцефалитках, новеньком камуфляже. Они принялись сноровисто выгружать какие-то ящики, мешки, свертки, целую вязанку досок. Уже через несколько минут неподалеку весело трещал костер, на огне булькало ведро и исходил паром чайник. Двое пришельцев почище хлопотали возле Ротару с бинтами, шприцами и какими-то снадобьями. Еще один подошел к Софронову и молча протянул ему утепленную армейскую куртку – бери, мол, «подгон от таежной братвы».
Глядя на суету хлопотливых гостей, Софронов поинтересовался у старика:
– Наверное, вертолет скоро уже начнут искать?
Ульян улыбнулся:
– Не боись, паря. Я тут порасспросил пилота, оказывается, перед нашей встречей они только вылетели из города, направлялись сначала сюда, а потом на дальнюю заимку Сенькина куда-то к Приполярному Уралу. Обратно должны возвратиться лишь через три дня, так что время у нас есть.
– Лады. Можно поинтересоваться, а каков наш дальнейший план?
Старик ответил не сразу:
– План, говоришь… Одно знаю точно: наши друзья сейчас соберут нарту и потащат Ротару в безопасное место. Жаль, что не получится погрузить ее в вертолет, это сильно упростило бы дело. Впрочем, друзей я захватил с собой много, целую дюжину, так что они будут менять друг друга эти двадцать верст до стойбища. Ничо, быстро добегут.
– А с этими охотничками чего делать будем? Извинимся, отпустим, и пусть летят восвояси?
Они не сговариваясь посмотрели на полоненных браконьеров, которых как раз сейчас под конвоем вели до ближайших кустов. Ульян хищно усмехнулся:
– Мое милосердие не простирается столь далеко. Отпустим, конечно, твое «маркаме», но только пешочком. Направление покажем, позади на всякий случай человечка пустим – приглядеть, чтобы не нашалили по дороге. Конечно, на вертолете нам было бы проще добраться до цели, да только не доверяю я этим прикормленным летунам-ложкомойникам. Так что…
Довольно невежливо Софронов перебил старика:
– Погоди, Ульян. А почему ты вертолетчиков «ложкомойниками» назвал?
Дед засмеялся, обнажив крепкие прокуренные зубы:
– Это слово от настоящих шоферюг пошло, «дальнобоев», тех, кто на трассе неделями пыль глотал, на Северах по зимнику ходил, комаров кормил, мерз и голодал. Такие вот настоящие профи терпеть не могли своих коллег, которые катали больших шишек на персональных «Волгах». Приезжает начальник с семьей на пикничок, а тут уже водила в качестве лакея – шашлычок соорудит, чаек спроворит. Таких вот и называли «ложкомоями».
Еще раз посмотрев на пленников, старик зло споюнул.
– В общем, обложим «восьмерку» деревьями, чтобы не нашли раньше времени, и двинем дальше. Наш с тобой путь лежит на Ковенскую, к девочкам-ведьмочкам, чтоб им пусто было. Правда, я уже давненько ничего о них не слышал, может, уже и косточек от старушек не осталось.
Он тяжело вздохнул и продолжил:
– Конечно, есть соблазн взять с собой пару-тройку мужиков-охотников с карабинами да автоматами, да только вещует мне сердце, что на месте они нам только мешать будут, а не помогать. Чего тебе, паря?
Последний вопрос относился к нерешительно топтавшемуся неподалеку молодому усатому мужчине, преданно ловившему взгляд старика. На плече у него висела видавшая виды изрядно пожеванная временем курковая тулка, на ногах надеты не раз латанные черные бродни еще советских времен, на голове – истрепанная кепка. Прежде чем заговорить, он смешно скривил лицо и почесал нос своими редкими усами:
– Я… Бляха-муха… Эта… Ну, в общем… Короче…
Ульян нетерпеливо похлопал его по плечу:
– Короче, дело к ночи. Так ты чего хотел-то?
Мужичок испуганно зачастил:
– Три года в Омске… Еслив надо – руки-то помнят… Екарный бабай… Ты тока скажи… Меня ж не выгоняли – сам ушел, по тайге затосковал…
Софронов решительно не мог понять, к чему пытался вести нить своего повествования усатый лесовик, а вот Ульян суть просек мгновенно:
– Говоришь, три года в Омском летно-техническом? Чо, и вправду – можешь? Не врешь?
Мужичок сначала отчаянно закивал башкой, а потом замотал ею из стороны в сторону. Ульян с явным сомнением оглядел его с головы до пят, принюхался, а потом кивнул на вертолет:
– Рискуем, конечно, но… Почему бы и нет? Ну что ж, уговорил. Иди, осмотрись там, вспомни, с какой стороны у нее рога, а с какой – вымя…
Казалось, удивленные глаза мужичка сейчас вылупятся из узких щелок и укатятся куда подальше:
– Ка… какое еще вы… вымя?
Ульян усмехнулся и успокаивающе похлопал собеседника по спине:
– Неужели не слышал, что летуны называют МИ-8 «коровой»? Впрочем, не бери в голову. Кстати, друг, ты меня извини, но я совсем забыл, как тебя зовут…
– Во… Вова. Вандымов. Из Сугунчума…
– Вот и познакомились. Иди, Вова, готовься.
Понаблюдав за тем, как новоявленный вертолетчик обрадованно вскарабкался в кабину и начал решительно шуровать на панели приборов, дед проворчал вполголоса:
– Да уж, живи смелей – повесят быстрей…
Пока прилетевшие «интенданты» развивали вокруг бурную деятельность, Софронову решительно нечем было заняться, поэтому он уселся в сторонке и предался философским размышлениям.
Сугунчум, значит. Один из тысяч маленьких сибирских поселков, сел и деревень, безжалостно раздавленных железной пятой «укрупнения колхозов». Тогда одним росчерком пера Советская власть подрезала поджилки всего российского крестьянства, тем самым разорвав вековую, природную связь между трудящимся человеком и его историческими корнями. Взяла и отчекрыжила, словно ненужный аппендикс, родовую щербатую зыбку, запах свежескошенной травы, душевные переливы гармони, зазывный смех молодых доярок, идущих с фермы.
У себя дома не будешь плевать на пол – грех, а в чужом – можно, ежели украдкой. В родной деревне нельзя гонять лодыря и быть хуже других, стыдно не помочь соседу в нужную минуту – презрением задавят и насмешками изведут. А в огромном «рабочем поселке» или городе, где человека некому одернуть и усовестить, допустимо все. Здесь на тебя не смотрят укоряющие лики святых и покосившиеся кресты на погосте, это не ТВОЯ земля, за которую должен держать ответ перед многими поколениями предков. А потому – можно все. И-эх, веселись, рабочий класс!
Сугунчум, Майка, Конево, Сухоруково, Дарко-Горшковский, Майка, Чага, Долгое Плесо, Сивохребт, Чучели, Сумкино, Слушка, Деньщики, Елыково, Луговая Суббота… Оно и понятно, не место таким чудесным, сказочным названиям в прагматичном рыночном времени. Не совместимы понятия «Долгое Плесо» и «инвестиции», «Луговая Суббота» и «инновации». Что поделаешь, если сегодня власть предержащие мечтают жить не в праотеческой деревне, а в «едином европейском пространстве»…
Кто-то осторожно подергал его за рукав. Подняв голову, Софронов увидел перед собой аборигена явно пенсионного возраста в новенькой необмятой «горке» (официально говоря, в «костюме горном ветрозащитном», но кто его знает под таким названием?). Его небольшой рост подчеркивал длиннющий карабин «Тигр», которым его владелец, похоже, чрезвычайно гордился и картинно выставлял напоказ. «Стойбищный спецназовец» широко улыбнулся Софронову, демонстрируя все свои в лучшем случае восемнадцать-двадцать зубов, потом наклонился вперед и доверительно шепнул:
– Пойдем кушать, друг. Шурпа поспела – м-м-м! – он для убедительности закатил глаза, облизнулся и постучал себя по выдающемуся животику.
«Тигровладелец» не соврал, шурпа действительно удалась на славу. Умяв тарелку огненно-обжигающего варева, Софронов съел затем большой кусок копченой медвежатины, а на десерт принялся уплетать позем – вяленую особым образом щуку. Позем оказался настоящим деликатесом, который делается аборигенами для собственного употребления, а не той убогой подделкой, что выставляется на рынке по умопомрачительным ценам.
Налопавшись от пуза и запив все крепчайшим сладким чаем, Софронов уютно умостился у костра и задремал под накинутой на него кем-то отчаянно линяющей оленьей шкурой. Ему приснился чудесный лесной берег, какой обычно рисуют на иллюстрациях в детских книжках: с бездонной глубины черным небосводом, утыканным огромными звездами, дикими кущами сказочных деревьев и таинственным мерцающим светом, льющимся из окон старого замка…
Утром все вокруг на пару дюймов оказалось усыпанным легчайшим свежим снежком. Хорошо выспавшееся солнце шустро выкатилось из-за горизонта, озаряя верхушки кедров желто-розовым светом. Хвойные лапы покрылись за ночь слоистым искрящимся инеем и оттого стали похожи на какие-то диковинные засахаренные фрукты, которые пьяненький озорной Дед Мороз развесил по всему лесу.
На душе Софронова тоже было легко и радостно, словно в предвкушении большого праздника. Поймав себя на этом чувстве, он суеверно попытался поскорее отогнать его прочь – знал, что слишком часто капризная вертихвостка-Фортуна под видом роскошных крем-брюле и трюфелей подсовывает застывшую монтажную пену…
Наскоро попив чаю, Софронов переоделся в заботливо предложенный ему зимний камуфляж и теплые ботинки. Надо же, все пришлось впору и сидело на нем как влитое. Пенсионер-«тигровладелец», оказавшийся кем-то вроде здешнего завхоза, выдал еще несколько пачек патронов, комплект запасного термобелья, небольшой запас продуктов. Упаковав все это, Софронов отправился навестить подружку.
Ей явно стало лучше. Она лежала на огромной куче мха под грудой шкур, выставив в сторону перебинтованную ногу, и с тревогой поглядывала на присевшего рядом Софронова. Ротару первой нарушила молчание:
– Я теперь буду беспокоиться о вас. Ты уж там не рискуй понапрасну!
Софронов улыбнулся и ободряюще почесал ее за ушком-лопушком.
– Не боись, Софья Михална, Ульян не выдаст – Мануйла не съест. Сходим, разберемся со всей этой нечистью и тут же вернемся назад.
Ротару строптиво махнула хвостиком.
– Не хвались, едучи на рать. Меня даже не Мануйла беспокоит, а ковенские ведьмы. Неизвестно, живы ли они и – самое главное! – чью сторону возьмут, когда шаманы станут воевать меж собой. Эх, не вовремя меня угораздило попасть в тот капкан!
И при этом Ротару обожгла ненавидящим взором сидящих неподалеку браконьеров. С ними как раз разговаривал Ульян и старший среди аборигенов, рослый, звероватого облика таежник. Вот старик закончил свою речь, затем наклонился и поочередно легонько тюкнул каждого указательным пальцем в лоб. После этого их развязали, на молодого пилота надели лямки туго набитого рюкзака, и подтолкнули в сторону темнохвойного урмана, едва видневшегося на горизонте. Когда пленники удалились на порядочное расстояние, вслед за ними мягко скользнул один из аборигенов.
Ульян подошел к своим спутникам, придирчиво оглядел Софронова, коротко бросил:
– Айда.
Ободряюще улыбнулся мамонтихе, ласково погладил ее по голове и они зашагали к вертолету.
В кабине уже вовсю шуровал Вова из Сугунчума – щелкал какими-то тумблерами, озабоченно рассматривал приборы, вообще создавал неимоверно деловую атмосферу. Дед стоял в дверях и критически рассматривал эту картину – пока после очередного щелчка не дрогнули лопасти железной птицы. Ульян обреченно покачал головой и уселся на металлическую лавку в салоне, прокричав на ухо Софронову:
– У меня сил нет смотреть на это. Но пусть пробует, в конце концов, мы всегда успеем уйти пешком. Верно говорят – помучишься, дак научишься…
И закрыл глаза. Удивительно, но Софронов готов был поклясться, что легендарный белый шаман Ульян испытывает определенный страх и сомнения в летных качествах Вовы из Сугунчума…
Грохот двигателя превратился в непрерывный рев, вертолет дрогнул, покачнулся, дернулся вверх, потом чувствительно долбанулся о землю, снова подпрыгнул, отчего содержимое софроновского желудка запросилось наружу, и вдруг начал стремительно подниматься. Софронов перекрестился, ухватил непослушными пальцами цепочку, вытянул и поцеловал нательный серебряный крестик. Потом закрыл глаза и попытался уснуть. Делай что должен…
В полудреме к нему пришел дивный сон – или не сон вовсе, а это просто прихотливые извивы памяти перенесли его в солнечные времена юности, когда во время летних каникул после окончания девятого класса он проходил производственную практику в электроцехе местной птицефабрики. Одним прекрасным июньским утром директор отправил Софронова вместе со старшей птичницей Ниной Васильевной на рейсовой пассажирской «Заре» в дальний назымский поселок – продавать цыплят.
Поездка выдалась во всех отношениях увлекательной и познавательной. На пути в поселок «Зарю» так кидало на высоких обских валах, что ящики с «продукцией» опрокинулись и желтая писклявая масса цыплят, словно армия миниатюрных китайчиков, рассыпалась по всему салону. В результате удалось существенно разнообразить досуг скучающих пассажиров, которые два часа кряду ловили у себя под креслами будущих несушек да петушков, и пытались водворить их обратно в ящики.
По прибытии на место опытная и пробивная Нина Васильевна быстренько распродала цыплят вмиг набежавшим селянкам, и тут же договорилась с экипажем проходящего «Ярославца», чтобы их подбросили обратно до города. Пока ждали отплытия, к Софронову подошел колоритный местный алкаш и предложил купить «немного» назымского вяленого чебака. Поскольку именно здешний деликатес испокон веков славился своими уникальными вкусовыми качествами, Софронов немедленно согласился. И через несколько минут стал обладателем целого мешка вкуснейшей ароматной рыбы в обмен на какую-то мелочь, что удалось наскрести в карманах.
Всю дорогу до города экипаж «Ярославца» вместе с пассажирами устилал поверхность Оби искрящейся на солнце чебачьей чешуей и ведрами пил воду – что ни говори, а рыба посуху не ходит. Софронов до сих пор помнил свои тогдашние ощущения: крики чем-то возмущенных чаек, залетавшие на палубу холодные брызги, ласковое солнечное тепло, чудесный аромат вяленого чебака. Помнил, как катер постепенно взбирался на гребни волн, а потом валился вниз, от чего екало сердце…
– …твою дивизию! …налево и вперехлест!
А ведь прежде Софронов и предположить не мог, что Ульян умеет материться, причем, столь вычурно, витиевато и громко, порой даже перекрывая грохот двигателя. Оказывается, так качало не «Ярославец» во сне, а МИ-8 в реальности. Вова из Сугунчума управлял им столь лихо и безбашенно, что заслуженный винтокрыл содрогался всем своим стареньким телом и возмущенно стонал. Чтобы отвлечься, Софронов развернулся на скамье и посмотрел в иллюминатор.
Внизу совсем рядом – протянуть руку – с сумасшедшей скоростью мелькали полосы чего-то темно-зеленого и временами – желто-красного. Видимо, Вова то ли боялся подняться повыше, то ли попросту вообразил себя пилотом «Кобры», заходящим на боевой разворот над позициями злых вьетконговцев. Вертолет несся на бреющем, едва не касаясь верхушек древних кедров и доводя до инфаркта окрестных белок. Через полминуты у Софронова закружилась голова, к горлу подступила тошнота, и он поскорее отвернулся от иллюминатора.
Похоже, несладко приходилось и Ульяну. Он то и дело судорожно сглатывал комок в горле, беспомощно елозил вокруг непривычно расширенными глазами, потом вдруг резко соскочил с лавки и кинулся в дальний угол салона. Пряча улыбку, Софронов смежил веки и подумал: «Интересно, что получится, если меня, который жутко боится высоты, попытаться сейчас вытолкнуть с парашютом вниз? Ну, одно знаю точно – живым до земли я бы точно не долетел…»
А потом сумасшедший полет закончился. Вертолет сначала завис на одном месте, клюнул носом, выровнялся, как собачонка задорно покрутил хвостом – и ухнул вниз, заставив деда подавиться очередной непечатной тирадой. Раздался удар, еще один, мерзкий хруст, – и рев движка наконец-то стал обессиленно стихать. В дверном проеме появилась довольнехонькая вовина рожа, похоже, ожидавшая похвалы своим летным качествам:
– Как вы тута? Нормалек? А я чо говорил! Как ветер домчались! Это вам не пуп царапать грязным пальцем!
Внимательно и сожалеючи посмотрев на лучившегося самодовольством «Чкалова», Ульян вытер губы и покачал головой.
– Раньше говорили, что только русский любит авось, небось да как-нибудь. Оказывается, это заразно. Ну что, Харон недоделанный, и куда ты нас домчал?
Вова позволил себе несколько обидеться:
– Здра-а-асьте! Как это куда? До места, тудыть его! Я, конечно, не эта долбанная джипиэска, но и так скажу, что это вот – Ковенская, других речек тут попросту и нету.
И ворчливо добавил:
– Вообще-то, бляха муха, могли бы и спасибо сказать. Язык-то, чай, не переломится…
Тяжело вздохнув, старик легонько щелкнул по носу своего персонального камикадзе и уже спокойно заметил:
– Ты шибко норку-то не задирай.
Вова опешил и огляделся:
– Какую еще норку? Откуда здесь норка? Ульян, ты щас о чем ващще?

