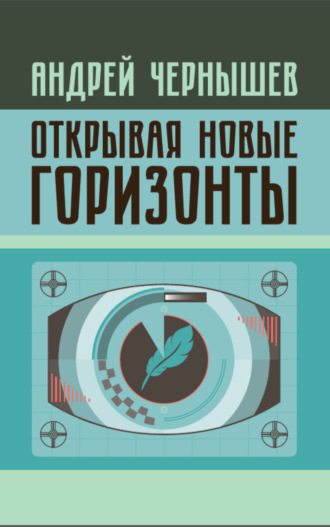
Открывая новые горизонты. Споры у истоков русcкого кино. Жизнь и творчество Марка Алданова
Об игровом кино журнал «Разумный кинематограф и наглядные пособия» писал только один раз, но тоже поставил в статье важную проблему, которая привлечет внимание всей кинопериодики через несколько лет. Обсуждая экранизацию романа А. Вербицкой «Ключи счастья», екатеринбургский журнал утверждает, что не всякое литературное произведение заслуживает воплощения на экране. В 1913 году этот тезис, кажущийся очевидным в наши дни, был внове. «Сине-фоно», «Вестник кинематографии», приветствуя обращение кино к литературе, трактовали литературу как единый поток, видели в ней высокое искусство с многовековой историей, способное указать путь молодому собрату. Но в это же время появилось и множество мещанско-обывательских произведений. Производители кино активно их экранизировали. Пошлость, присутствовавшая в книге, переходила и в фильм. Автор статьи, подписавшийся «Любитель кинематографа», цитатами из «Ключей счастья» доказывал вредность этой книги. Нельзя не отметить важность выступления екатеринбургского журнала, который первым заговорил о безнравственности экранизации, «бьющей на низкие инстинкты толпы» (№ 2). Вместе с тем автор выражал крайнюю позицию, считая, что любая экранизация самостоятельной художественной ценности не имеет.
* * *
Сложившаяся в 1907—1914 годах система кинопечати отличалась стихийностью, неупорядоченностью. На каждого театровладельца приходилось по нескольку экземпляров разных журналов, массовая киножурналистика находилась в зачаточном состоянии. В десятках небольших городов, где событием становился редкий случайный визит трупп-гастролеров, кино сделалось важнейшим средством проведения досуга, но в печати почти не было материалов об особенностях этого нового зрелища. Не лучше дело обстояло и в Петербурге, Москве, Киеве, где предназначенные зрителям киноиздания были откровенно примитивны. Пропагандируя текущий репертуар, они не пытались выработать уважения и требовательности к фильму, гнались за сиюминутной выгодой. Характерный документ, свидетельствующий о неразвитости кинопериодики, – упомянутое выше соглашение о чередовании выпусков между «Вестником кинематографии» и «Сине-фоно»: оно свидетельствовало, что журналы, вы-пускавшиеся в рекламных целях, еще не осознали неизбежности розни. Газеты и журналы, преследовавшие коммерческие цели, решительно преобладали: их было в предвоенные годы более пятидесяти, и только одно издание ставило перед собой просветительскую цель.
Многочисленность изданий, посвященных кино, находит параллель в многочисленности шедших на экране короткометражных картин; общий низкий уровень и тех и других также соответствовали. У кинопечати, как и у кино, не было традиций, не хватало квалифицированных творческих кадров.
Многие журналисты выступали одновременно в нескольких конкурировавших между собой изданиях. Поскольку специализация их творческого труда еще только начиналась, выступали и по коммерческим и по техническим вопросам, а непосредственно перед войной все чаще по вопросам эстетики кино. Они работали в самых разных жанрах, порою даже писали стихи и рисовали шаржи.
Признак начального этапа кинопечати, показывающий, как издатели стремились скрыть, что круг авторов узок, – система публикации статей без подписи («Живой экран») и под очевидными псевдонимами. Некоторые из псевдонимов встречаются от случая к случаю, другие регулярно41. В «Кине-журнале» псевдонимы постоянно трансформировались, и это было формой своеобразного заигрывания с читателем. Так, если одна из статей подписана «Князь Сенегамбий» (он упоминается в незадолго перед тем появившемся .цикле Н.С. Гумилева «Капитаны»), то вскоре можно было ждать подписи «Князь Сенегальский»; если в печати говорили о книге скончавшегося эсера– террориста Г.А. Гершуни, то журнал по-своему откликался на этот интерес, подписывая статьи Г. Герсони или Г. А. Г-ни.
Трансформация псевдонимов ставит порою перед читателями трудные загадки. В 1970 году душанбинский исследователь Б. Милявский и москвичи Р. Дуганов и В. Радзишевский42 одновременно пришли к выводу, что в 1913-1915 годах в «Кине-журнале» был напечатан ряд статей Маяковского под различными модификациями псевдонима А. Владимиров. Московские ученые, в отличие от их душанбинского коллеги, считают подпись А. В-д под статьей в № 20 (1913) также трансформацией основного псевдонима. Но, во-первых, она появилась в журнале до того, как появился основной псевдоним: она достаточна от него далека, в отличие, скажем, от подписи Вл-в в № 23-24 (1914); во-вторых, за месяц до подписи А. В-д в № 18 (1913) мы находим в журнале подпись Д-в, и хотя Дуганов и Радзишевский считают статью «Кинематограф и оскорбленная мораль», появившуюся за этой подписью, также принадлежащей перу Маяковского, вызывает недоумение ситуация: сначала автор берет предельно дальние трансформации своего будущего псевдонима и лишь постепенно приближается к нему. Быть может, две эти подписи скрывают соавторство Маяковского и его старшего товарища Давида Бурлюка, также выступавшего в журнале?
«Вестник кинематографии», стремившийся повысить культуру фильма путем привлечения в кино творческих работников театра и литературы, своих постоянных авторов в предвоенные годы не имел. На страницах журнала порою выступали известные театровед С. Волконский, журналист И. Василевский (Не-Буква), чаще, однако, второстепенные деятели искусств. К созданию постоянного авторского актива Ханжонков приступил лишь в 1914 году.
В «Сине-фоно» круг постоянных авторов сложился раньше, в 1911 – 1912 годах. Среди них М. Браиловский, которого С.С. Гинзбург считает лучшим из киножурналистов того времени, и талантливый публицист И. Мавич, выступавший и как художник. В 1914 году под статьями часто появляется подпись: Федор Машков (осенью 1913 года она встречалась в журнале «Кинотеатр и жизнь»). Это псевдоним 19-летнего Ф.А. Оцепа, только начинавшего свою деятельность в кино, а в будущем – одного из авторов сценариев «Пиковой дамы», «Поликушки», «Аэлиты», режиссера популярной «Мисс Менд»43. Секретарем редакции был М. Алейников.
От раннего периода киножурналистики не сохранилось свидетельств противоречий, розни издателей и авторов. Авторам, в большинстве случаев молодым, был свойствен романтический подход к кино, им казалось, что и кинофабриканты разделяют их увлеченность новым искусством.
Первое свидетельство начала нового этапа, когда наступает осознание унизительной зависимости журналиста от издателя, отчетливо проявилось в известном, но недостаточно осмысленном, на наш взгляд, факте: В.В. Маяковский в июле – сентябре 1913 года выступил с тремя статьями в «Кине-журнале» за собственной подписью44, а затем на протяжении двух лет печатался в нем только под псевдонимом.
Б. Милявский объясняет это тем, что более поздние статьи Маяковского – «статьи без футуризма». Р. Дуганов и В. Радзишевский полагают, что псевдоним избавлял Маяковского от связи его имени с «миром приобретателей», а редакцию от неудобной ситуации, когда одним из ее постоянных сотрудников является футурист45. Однако Бурлюк продолжал печататься в «Кине-журнале» за своей подписью.
По нашему убеждению, причиной перехода Маяковского на положение автора, выступающего под псевдонимом, стала история с плагиатом. Много лет спустя поэт вспоминал о своем дебюте в качестве киносценариста:
«Погоня за славой» – написан в 13 году. Для Перского. Один из фирмы внимательнейше прослушал сценарий и безнадежно сказал:
– Ерунда.
Я ушел домой. Пристыженный. Сценарий порвал. Потом картину с этим сценарием видели ходящей по Волге. Очевидно, сценарий был прослушан еще внимательнее, чем я думал»46.
В 1913 году отраслевые журналы заполнены сообщениями о том, что сценариев не хватает и даже графоманские сценарии служат основой для фильмов. Неудивительно, что фирма Перского поставила фильм по «Погоне за славой». Обыкновенный плагиат, литературное воровство никогда не казались Перскому предосудительными.
Драматично положение писателя, продолжающего работать у обокравшего его кинофабриканта. Маяковский никому и никогда не рассказывал о своих статьях, опубликованных в «Кине-журнале» под псевдонимом. Он, как стало теперь известно, пытался наладить сотрудничество с другими фирмами, но безуспешно. Можно расценивать как достоверное свидетельство Бенедикта Лившица о том, как он вместе с Маяковским ездил к Ханжонкову47. Маяковский стремился расстаться с Перским, но уходить из киножурналистики не хотел. Молодость поэта совпала с молодостью кино, он видел в нем воплощение своего взгляда на связь современного искусства с техникой, своей мечты об искусстве «для улицы», для миллионов.
Между тем Перский наживает себе нравственный капитал на сотрудничестве футуристов в «Кине-журнале». После первого выступления Маяковского в журнале он печатает, явно, чтобы привлечь внимание питателей к сотрудничеству нового автора, злой «Ответ футуристу Маяковскому», подписанный «Не-футурист» (1913, № 15). Автор ответа отрицал футуризм как таковой, называя его «искусством губить, рвать, уничтожать». В кокетливом редакционном примечании говорилось, что редакция принципиально не согласна с обеими статьями, но, уважая свободу мысли в вопросах искусства, дает место на своих страницах авторам, стоящим на полярных позициях.
* * *
Растущее понимание розни между издателем-коммерсантом и журналистом – характерное, но далеко не единственное свидетельство зрелости новой отраслевой печати. За семь предвоенных лет претерпели существенные изменения рубрики специальных журналов, расширилась система жанров. Первые номера «Сине-фоно» разделялись на три равных по объему отдела: статьи, либретто, списки и реклама новых фильмов. С развитием кинодела два последних отдела начинают быстро обгонять в своем росте первый, но и первый также увеличивается в объеме, расширяется его тематика. Из отдела статей он к 1912 году становится синтетическим отделом, где печатаются стихи, рассказы, очерки, фельетоны, интервью, переписка с читателями. Уже ранее, в 1910 году, примерно половину его объема в «Сине-фоно» и «Кине-журнале» занимают заметки и корреспонденции. Они сгруппированы по отдельным темам: действия и распоряжения администрации; по кинотеатрам (новые кинотеатры, коммерческая жизнь); зарубежная информация; новости
кинематографического рынка. Журналы вводят практику перепечатки статей о кино из общественно-политических и литературно-художественных изданий, это помогает киножурналистике быстрее ассимилировать новые идеи, выдвигаемые извне кинематографической среды. Публикуются переводы из зарубежных изданий, что также расширяет кругозор читателей-профессионалов. Вводится отдел «Почтовый ящик». Хотя рубрики порой называются по-разному, по существу они совпадают и в журналах фирм и в «независимых» журналах.
Важную роль приобретает хроника новых фильмов. В «Сине-фоно» расхваливает все фильмы подряд сам Лурье, как бы придавая замаскированной рекламе больший вес своей подписью. «Кине-журнал» лишь изредка упоминает отдельные картины. «Вестник кинематографии» не только рекламирует продукцию фирмы Ханжонкова, но и бранит его конкурентов: например, в № 1 (1914) высмеивает Дранкова и Талдыкина, выпустивших якобы к 100-летию со дня рождения Гончарова экранизацию «Обрыва» – на деле юбилей писателя был годом раньше. «Кинотеатр и жизнь» разносит все фильмы. Характерно, что высокая требовательность к экрану возникла впервые в журнале, печатавшем отзывы о спектаклях лучших театров страны. На этом фоне опереточная борьба страстей, свойственная большинству предвоенных картин, становилась еще нагляднее.
Расширение жанровой палитры может рассматриваться как попытка издателей откликнуться на происходившие в кино перемены. Возросшая роль информации была связана с ростом киносети и числа новых кинолент. Заметки о новых фильмах отражали не только усилившуюся конкуренцию фирм, но и начало осознания ценности отдельного фильма как произведения искусства.
Люди предвоенной эпохи с удивлением следили за быстротой развития кинематографа. А.С. Серафимович писал в конце 1911 года: «Как могучий завоеватель надвигается кинематограф»48. Леонид Андреев задумал в 1913 году перепечатать написанную им годом ранее статью о кино и неожиданно обнаружил, что она уже устарела: «Кинематограф отчаянно скакнул вперед. Вот быстрота! Он не идет приличной поступью, как другие изобретения, – он несется; он плывет по воздуху, он расползается неудержимо»49.
В области техники кино быстрых изменений не было, попытки создать звуковое и цветное кино кончались постоянными неудачами50. Но все компоненты фильма постоянно улучшались: выразительнее становились декорации, более умелым монтаж, актеры постигали особенности игры для экрана. Перестав быть аттракционной диковинкой, фильм начинал привлекать зрителя художественными особенностями.
Менялось общественное осознание кино, и определяющую роль в этом процессе играла отраслевая печать.
Уже имелся ценный исторический прецедент: в 1839 году была изобретена фотография, а в 1864 году в журнале «Фотограф» (№ 13—14) впервые утверждалось, что фотография – не только подсобный инструмент для нужд полиграфии и для размножения произведений живописи, это новое искусство. Автором статьи, характерно названной «Искусство фотографии», выступил молодой Ф.Ф. Павленков, впоследствии видный книгоиздатель. Четверть века разделяло изобретение и статью, но процесс всеобщего признания фотографии искусством затянулся еще на долгие десятилетия: например, в журнале «Сине-фоно» (№ 15, 1907—1908) напечатано письмо, где доказывается, что ни фотоснимки, ни «синематографические снимки с натуры» считать произведениями искусства нельзя, они-де всего лишь «копия природы».
Первые киносеансы и первые статьи в русской прессе, где о кино говорится как о новом искусстве, разделяет более короткий срок, и это говорит об ускорении развития техники и общественного сознания на рубеже XIX и XX столетий. Отрицательная рецензия на французскую экранизацию романа Л.Н. Толстого «Воскресение» была в журнале «Кинемо» (№ 17, 1909) озаглавлена «Искусство без искусства». В тексте рецензии мысль о кино как об искусстве не получала развития, но название представлялось неслучайным. В ней говорилось, что только русское кино может успешно воплотить на экране произведения русской классической литературы. Автором был, по-видимому, начинавший собственное производство фильмов А.А. Ханжонков, она подписана его инициалами. В январе 1911 года в передовой статье только что открывшегося журнала фирмы Ханжонкова «Вестник кинематографии» после критики картин, выпущенных, как пишет автор, «с ярко выраженною целью наживы», следует знаменательное рассуждение:
«А вместе с тем кинематография ведь может быть и должна быть искусством (подчеркнуто нами. – А.Ч.), учителем народным, выразителем его нужд и желаний»51. Традиционная для русской эстетики мысль об учительской функции искусства впервые в этой статье прилагалась к кино. Но ее автор еще не считал кино искусством, он лишь рассуждал о возможности и необходимости его превращения в искусство.
Проходит менее двух лет, в октябре 1912 года в «Сине-фоно» печатается статья М. Браиловского «Наболевший вопрос», в которой впервые декларативно заявлено, что кино не только может стать искусством, оно уже им является: «Кинематограф – это особый род искусства, зародившегося в начале нашего века и находящегося еще в процессе своего самоопределения». Главная задача, стоящая перед кинематографом, говорится в статье, та же, что и у других искусств, – «облагораживать и возвышать зрителя, делать его современным в эстетическом, культурном и моральном смысле»52. Признание кино искусством, залог его будущих великих свершений, прозвучало в нашей стране раньше, чем на Западе. Французский историк кино Жорж Садуль сообщает, что в западноевропейских странах «до 1915 г. никто не считал кино искусством»53.
Вскоре новый взгляд на кино стал достоянием не только узкой среды специалистов, но завоевал признание в общественном мнении. В апреле 1913 года в Москве в Политехническом музее был организован диспут «Кто победит, синематограф или театр?», и хотя в нем участвовали главным образом театральные критики, в отчетах о диспуте печать впервые заговорила о кино как о большом и своеобразном художественном явлении, подобном другим родам искусств.
Историки кино обычно выделяют два этапа общественного осознания кино – начальный аттракционный и этап, когда его признают искусством. Однако старые отраслевые журналы свидетельствуют, что в начале периода 1907—1914 годов отношение к кино как к техническому аттракциону уже заканчивается, а в конце периода понимание кино как искусства только утверждается. Большая часть периода в рамках принятой периодизации – своеобразная terra incognita. Между тем для предвоенных киножурналистов это самостоятельный этап развития кино: они видят в нем зрелище, уже не аттракцион и еще не искусство54. Зрелище – преимущественно игровой фильм.
Одновременно расширяется круг читателей специального журнала. О том, что кинематограф можно облагородить, если привлечь к сотрудничеству в нем крупных деятелей старых искусств, начинают задумываться еще в 1908 году55, однако широкое распространение этот взгляд получает через три-четыре года, когда Ханжонков, а следом за ним и другие коммерсанты украшают титры фильма перечнем знаменитостей. В свою очередь, актеры, писатели, художники вдруг «открывают» кино, начинают рассуждать о нем в многочисленных интервью. К.Д. Бальмонт и И.А. Бунин, О.Л. Книппер и В.Н. Пашенная, К.С. Станиславский и Л.С. Бакст56 пытаются осмыслить процесс становления нового искусства. Драматурги пробуют писать сценарии, театральные актеры снимаются в фильмах. Поскольку общая пресса о специфике творчества в кино не пишет, а в «Сине-фоно», «Вестнике кинематографии» и других эта тема начинает занимать все большее место, деятели старых искусств порою обращаются к отраслевым кинематографическим журналам, выступают на их страницах. Новому кругу читателей адресовано большое количество иллюстраций (кадры из фильмов, портреты актеров и т. п.). Журнал для коммерсантов становится журналом для специалистов.
Эта важная перемена в специальной киножурналистике перед первой мировой войной совпала с оживлением общественной жизни. В 1911—1912 годах «Московские ведомости», «Земщина», «Гроза» выступают с необыкновенно резкими нападками на кино, видят в нем средство подрыва патриархальных общественных устоев. «Гроза», например, пыталась установить зависимость между упадком нравов юношества и даже духовенства и растлевающим, по ее словам, воздействием фильмов57. По сообщению «Вестника кинематографии», митрополит Владимир предложил столичному духовенству обратиться к молящимся в церквях с разъяснением вреда кинематографа (№ 4, 1914).
«Кине-журнал», напротив, свидетельствовал: «Кинематографические картины проходят такой цензурный фильтр до появления перед зрителями, что даже самый неприличный фарс, заставляющий в театре краснеть взрослых, превращается на экране в безобидную комедию, которую самый строгий воспитатель не побоится показать воспитаннику»58. Отраслевая печать выступает в защиту «театра демократии» единым фронтом, в каждом из журналов появляются статьи и фельетоны, направленные против черносотенцев.
В первые годы своего существования киножурналистика редко и робко обращается к теме бесправия и тяжелых условий труда служащих кинотеатров. В № 22 (1908-1909) «Сине-фоно» отмечается, что киномеханикам оплачиваются как рабочее время только киносеансы. Между тем налаживание аппаратуры и подготовка пленки занимают у них почти
столько же времени. В 1910 г. в Петербурге умерла во время сеанса молодая пианистка О. Беспалова – она аккомпанировала фильмам 12 часов подряд. Тогда «Сине-фоно» (№5, 1910-1911) и «Вестник кинематографии» (№ 1, 1910) впервые ставят вопрос об охране труда в кинематографии, о необходимости специального законодательства. Число подобных материалов в предвоенные годы резко возрастает, однако призывы журналов остаются гласом вопиющего в пустыне.
Постепенно намечается расширение диапазона социально-политических тем, рассматривавшихся журналами сквозь призму кино. Показательно своего рода самоосознание киножурналистики: ростовский «Живой экран» в 1913 году заявляет, кто кинопечать «должна иметь определенное направление, какое-нибудь руководящее начало. Она не должна быть в этом отношении обособленною от общей прогрессивной печати»59. Журналы ведут борьбу против невежественных чиновников, вершивших судьбы, в особенности против цензоров. Каждый цензор подходил к картинам со своей меркой, и от его прихоти зависело, будет ли выпущена картина на экраны города. Единой фильмовой цензуры не существовало.
В «Вестнике кинематографии» сообщено, например, о конфискации в Петербурге документальной ленты «Похороны Вяльцевой» за то, что в ней были показаны «слишком энергичные действия полицейских чинов относительно публики» (№ 5, 1913). В «Живом экране» (№ 13, 1913-1914) была помещена следующая заметка. «Николаевскому полицмейстеру была представлена для подписи афиша кинематографа. В афише сообщалось, что на экране будет демонстрироваться инсценированный чеховский рассказ «Хирургия». Как известно, в этом рассказе выведен в виде пациента дьячок. Полицмейстер написал на афише: «В интересах православия – запрещаю».
Политическая оппозиционность специальных журналов достигла своего апогея в 1913 году после издания правительственной директивы,
предлагавшей местным полицейским властям «обращать особое внимание на картины из рабочей жизни и ни в коем случае не разрешать демонстрирование тех из них, в которых, изображены тяжелые условия труда, а также сцены, могущие возбудить рабочих против хозяев». Отмечая усиление социальной направленности в кинопечати, все же не будем переоценивать оппозиционность киноизданий: в большинстве случаев она лишь отражала усилившееся недовольство русской буржуазии царизмом. Однако в каждом журнале время от времени появляются материалы, далеко выходящие за рамки умеренно-либеральной позиции его издателей. Объяснить это можно сравнительной свободой действий, которой пользовались в предвоенные годы авторы и сотрудники кинематографических изданий.
В предвоенные годы киножурналистика находится в изоляции: либерально-буржуазная печать старается не замечать кино, проявляет к нему пренебрежительное безразличие. В равной мере, хотя и по разным причинам неприкрыто враждебны к кино монархическая печать и театральные журналы.
Киножурналисты остро ощущали свою отчужденность от большинства коллег по профессии. В начале 1911года С. Никольский с сожалением констатировал в «Сине-фоно»: «Посмотрите теперь почти любой орган ежедневной печати – газеты, и если что встретится про синематограф, то обязательно приправленное таким едким сарказмом и насмешкой, что неловко становится за неглупых людей, изрекающих такие скороспелые выпады: «Пошлость, ерундистика, иллюзионщина, крикливость, визгливое приплясывание…»60. Несколько позднее «Кинотеатр и жизнь» утверждал, что не только печать, вся русская интеллигенция «…по отношению к кинематографу оказалась во власти странных предрассудков. Она не поняла и не оценила кинематографа в момент его появления… с непозволительным легкомыслием отнесла кинемо к разряду балаганных зрелищ». Откликаясь на статью в газете «Южный край», отмечавшую, что воздействие вредного примера в кино более сильное, чем в литературе, преступления и пороки на экране наглядны, порою даже привлекательны, «Кинотеатр и жизнь» заявлял: «Все это – совершенно справедливо. Но почему автор не пытается указать на возможность устранения вредных сторон кинемо? Почему не зовет культурную часть общества на служение кинемо – ведь в этом единственное средство обезвредить его?» Авторам журнала казалось, что существует простой рецепт повышения художественного уровня картин: «Задача интеллигенции – освободить кинематограф от исключительной власти коммерсантов и людей наживы, привить ему художественные цели и возвышенные стремления»61.
Сейчас, спустя десятилетия, можно с уверенностью заключить, что все попытки интеллигентов освободить экран от фильмов, насаждающих жестокость и насилие, потерпели неудачу. Русская интеллигенция по достоинству оценила возможности кино с первых же его шагов: общеизвестен интерес к нему В. Стасова и Л. Толстого. Перед первой мировой войной многие выдающиеся деятели русской культуры рассуждают о возможностях кино, выражают желание в нем работать. Но кинопроизводство требует крупных материальных затрат, интеллигенты неизбежно должны были идти на поклон к капиталисту. Весь последующий опыт западного кино убедительно свидетельствует, что коммерсанты всегда сохраняли контроль за экраном.
Осмыслить вопиющее противоречие между огромными творческими возможностями нового искусства и низким уровнем почти всех его произведений ранней русской киножурналистике помогала социология искусства.
***
М. Браиловский в статье «Камень вместо хлеба» подверг статистической обработке кинорепертуар 1912 года и пришел к следующим выводам:

