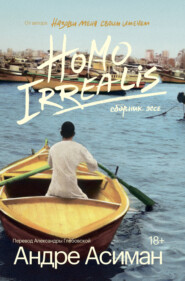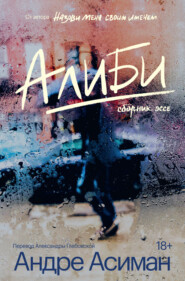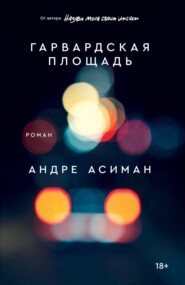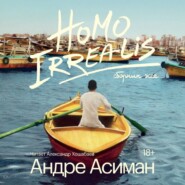По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Восемь белых ночей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но она сидела, подобно бдительной сиделке на почасовой оплате – не уйдет, пока пациент не проглотит последнюю прописанную врачом пилюлю.
– Вот, возьми хлеб, – сказала она. – И подержи во рту, авось поможет.
Я – Клара, милосердная.
Я взял его, как порою берут носовой платок, без сопротивления, без гордыни, ибо знал – и именно это скрывалось за моей вымученной улыбкой, – что, вопреки своей воле, вопреки всем раскладам, вопреки всем объяснениям, подошел к обрыву столь близко, что теперь осталась одна забота: сделать так, чтобы спазм, который того и гляди вырвется из горла, не оказался рыданием.
Наконец я проглотил хлеб. Она молча следила за движениями моего кадыка.
Потом она повернулась, посмотрела в окно. Она напоминала мне человека, который считает тебе пульс, глядя в сторону, отсчитывает секунды с отрешенным видом. Я не знал, что делать, и потому повернулся тоже и уставился на Гудзон; плечи наши соприкасались – мы понимали, что это безобидный пустяк, и часть моей души так и рвалась показать, что молчание – самое обычное дело между посторонними людьми, которые познакомились на вечеринке и теперь нуждаются в передышке. Мы ничего не сказали по поводу вида, по поводу знакомых и не знакомых ей людей в комнате, по поводу огоньков, мигавших за рекой в Нью-Джерси, по поводу скорбных льдин, старательно сплавлявшихся по течению, будто разбросанное стадо овечек, пастухом при котором – стоящая на приколе баржа, что провожает их светом бдительного прожектора.
Снаружи, на Риверсайд-драйв, стояли в озерах света одинокие фонарные столбы, блестел снег – они были похожи на потерявшийся хор из греческой трагедии, у каждого застывшего чародея на голове сноп пламени. Мы слишком далеко, казалось, говорили они, так что ничего не слышим, но мы знаем и всегда знали про вас.
Она сказала, что любит свежий воздух. Чуть приоткрыла балконную дверь, в комнату вползла студеная струйка. А она шагнула на оказавшийся очень просторным балкон и тут же закурила сигарету. Я шагнул следом. Курю ли я? Я сделал утвердительный жест, а потом вспомнил, что примерно в момент рождения младенца, которому полгода да неделя от роду, дал зарок бросить. Поспешно объяснил. Она извинилась и сказала: никогда больше не станет мне предлагать. Я принялся гадать, содержит ли «никогда больше» добрые предзнаменования, но решил не выискивать скрытых смыслов в каждой ее фразе.
– Я их называю тайными агентами.
– Почему?
– В кино все тайные агенты курят.
– Значит ли это, что у тебя много тайн?
– Это бесцеремонно.
Какой же я глупец!
Она изобразила послевоенного агента, прикуривающего на ходу в темном мощеном переулке старой Вены.
Снаружи над городом висела бледная серебристая дымка. Снегопад не прекращался весь вечер. Она стояла рядом с перилами, двигала ногой, мечтательно разгребала снег замшевой туфелькой, тихо сбрасывала его с кромки. Я смотрел, как снежинки разлетаются по ветру.
Мне нравился этот жест: туфелька, замша, снег, кромка – все это делалось рассеянно, с сигаретой в руке.
Я раньше и не догадывался, что есть особая красота в том, чтобы шагнуть на свежий снег и оставить свои следы. Я всегда пытался избегать снега, холил свою обувь.
С этой высоты багряно-серебристый город казался эфемерным, далеким, потусторонним – зачарованное королевство, сияющие шпили которого молча вздымаются сквозь дымку зимних сумерек, чтобы вступить в беседу со звездами. Я смотрел на свежие борозды от шин на Риверсайд-драйв, на одинокие фонарные столбы со снопами пламени на головах, на автобус, что ковылял сквозь снег – пробрался через перекресток Риверсайд и Сто Двенадцатой улицы и побрел дальше, – сугробы на сутулых плечах, пустая стигийская лодчонка, уходящая к незримым краям и целям. Я, как и Клара, говорил он, доставлю туда, куда ты и не чаял добраться.
Официант сдвинул в сторону балконную дверь и осведомился, не хотим ли мы чего-нибудь выпить. Заметив у него на подносе «Кровавую Мэри», Клара тут же объявила, что будет ее. Официант не успел ничего возразить, а она уже схватила бокал с подноса. Я – Клара. Я всё хватаю. Цвет напитка совпадал с цветом ее блузки. А потом она поставила бокал с широким ободком на балюстраду, закопав основание и часть тонкого конуса в снег – то ли чтобы охладить, то ли чтобы его не перевернуло порывом ветра. Докурив, она загасила окурок носком туфли, а потом аккуратно смахнула его с края, как раньше смахивала снег. Я знал, что этот миг не забуду никогда. Туфельки, бокал, балкон, льдины, плывущие по Гудзону, автобус, ковыляющий по Риверсайд-драйв. О, не шуми, Гудзон, пока я допою.
В тот вечер, но раньше, я сел в такой же автобус, из-за метели напрочь пропустил свою остановку и вышел через целых шесть кварталов от Сто Шестой улицы. Помню, что гадал, где я нахожусь, почему ошибся, чувствовал себя полным идиотом, в руке тащил пакет из дорогого бутика, в котором то и дело позвякивали две бутылки шампанского, хотя продавец и вложил между ними кусок картона. Рядом со Сто Двенадцатой улицей я разглядел сквозь снегопад памятник Сэмюэлу Тилдену – торжественный бесстрастный взгляд, обращенный к западу, – вскарабкался по ступеням и огляделся, пытаясь отвязаться от слюнявого сенбернара, который внезапно объявился на той же горке и, похоже, не собирался от меня отставать. Что лучше – сбежать или, сохраняя спокойствие, делать вид, что я его не замечаю? Тут раздались голоса двух мальчишек – они отзывали собаку. Катились с горки на санках. Пес, который явно запутался в направлении, помчался вслед за ними в парк. А потом – тихая, мирная, блаженная прогулка через шесть этих безлюдных кварталов по переулку, тянущемуся вдоль Риверсайд, изгибами, то внутрь, то наружу, похрустывание льда под снегом. Вспомнились «Бедфорд Фоллз» Капры и «Сен-Реми» Ван Гога, Лейпциг, хоры Баха и то, как ничтожные происшествия порой открывают нам новые миры, здания, людей, даруя неожиданные лица, которые уже никогда не захочется утратить. Сен-Реми, городок, где Нострадамус и Ван Гог ходили по одним и тем же тротуарам, где пересекались пути ясновидящего и безумца, они приветственно кивали друг другу, разделенные столетиями.
Глядя с тротуара на окна наверху, я воображал себе дружные довольные семейства, где дети вовремя садятся делать уроки, а гости, которым страшно не хочется уходить, оживляют разговором ужины, хотя супруги за столом по большей части молчат. С балкона, где мы сейчас стояли, история со страшным сенбернаром выглядела глухой древностью. Я вспомнил, что подумал про средневековые рождественские городки на Эльбе и Рейне, тем более что совсем рядом над Сто Двенадцатой улицей и рекою нависал собор. Чтобы обеспечить себе положенное опоздание и чуть больше, я обошел квартал, оказался на Бродвее рядом с парком Штрауса, радуясь, что могу еще передумать и вообще не ходить на вечеринку, тем более теперь, когда желание почти испарилось – я даже поймал себя на том, что выдумываю убедительные оправдания, чтобы развернуться и отправиться домой, но при этом сжимаю в руке пригласительную открытку, на которой золотой филигранью отпечатан адрес. Линии были такими тонкими, что не прочитать, и меня уже подмывало спросить дорогу у ближайшего фонаря – ведь и он, как я, заплутал и застыл средь вьюги, хотя добросовестно отбрасывал весь оставшийся у него свет, чтобы помочь мне прочитать то, что стало напоминать призрачные катрены, выведенные прихотливым почерком самого Нострадамуса. Чтобы убить время, я отыскал маленькую кофейню и попросил чая.
А теперь я здесь, теперь я с Кларой.
Проглотив Манкевича и едва не подавившись куском перца, я стоял на балконе над Манхэттеном, уже помышляя о том, чтобы завтра ночью вернуться на Сто Шестую улицу, пересмотреть в памяти весь этот вечер – неспешно, размеренно: собор, парк, снег, золотую филигрань, фонарные столбы с пламенеющими головами. Я бросил взгляд вниз: если бы это было возможно, я подал бы себе, подходившему к этому дому несколько часов назад, знак, предупредил, чтобы он откладывал приход как можно дольше, – сперва полшага, потом половину от этого полшага, потом половину половины этого полшага – так поступают суеверные люди, когда, робко протянув руку, потом отталкивают ту самую вещь, о которой мечтают, потому что боятся: если не оттолкнуть подальше, она никогда тебе не достанется – асимптота ходьбы и желания.
Обнять ее за талию? Асимптотически?
Я попытался отвести от нее глаза. Видимо, она тоже смотрела в сторону, мы оба уставились в вечернее небо, которое рассекал блеклый неверный голубоватый луч прожектора, исходивший из неведомого угла на Верхнем Вест-Сайде; он брел на ощупь через пятнистую ночь, будто в поисках чего-то невнятного – он и не надеялся этого найти, описывал над нами дугу за дугой, точно тощий острокрылый римский ворон, что каждый раз промахивался, когда пытался сесть на карфагенский корабль-призрак.
Сегодня волхвы точно заблудятся, хотел сказать я.
Но оставил слова при себе, гадая, долго ли мы будем вот так стоять, глядя во тьму, следя за молчаливым скольжением луча прожектора – будто это захватывающее зрелище, ради которого стоит помолчать. Может, прискучив движением по небу, луч остановится на чем-то, о чем можно поговорить, – возможно, в этом случае темой беседы станет сам луч. Интересно, что им хотят высветить. Или: что его испускает? Или: почему он смещается вниз всякий раз, как доходит до самого северного шпиля? Или: такое ощущение, что мы попали в Лондон, а это – Блиц. Или в Монтевидео. Или в Белладжо. А может, был другой, неуловимый вопрос, который я все пытался выкрутить из себя, будто и внутри меня шарил крошечный луч прожектора, вопрос, который я и задать-то не мог, а уж тем более дать на него ответ, но задать был должен – про себя, про нее, и назад ко мне – потому что я знал, что шагнул внутрь крошечного чуда в тот самый миг, когда мы вышли на балкон посмотреть на этот ирреальный город, и поэтому должен был знать, что и она думает то же самое, иначе мне не поверить.
– Белладжо, – произнес я.
– Чего – Белладжо?
– Белладжо – крошечная деревушка на мысу на озере Комо.
– Знаю я Белладжо. Я там была.
Опять срезала.
– В некоторые особенные вечера Белладжо оказывается совсем рядом – озаренный огнями рай, всего-то в паре гребков веслом от берега озера Комо. В другие вечера до него не фурлонг, а много лиг и целая жизнь – не доберешься. И вот сейчас настал миг Белладжо.
– Что такое миг Белладжо?
Или мы не говорим на зашифрованном языке, ты и я, Клара? Я ступал по яичной скорлупе. Часть души не хотела знать, куда меня несет, другая понимала, что я преднамеренно забираюсь в опасные места.
– Тебе правда интересно?
– Может, и неинтересно.
– Значит, ты уже догадалась. Жизнь на другом берегу. Жизнь, какой она быть должна, не та, которую мы проживаем. Белладжо, не Нью-Джерси. Византия.
– Первые твои слова были правдой.
– Которые?
– Когда ты сказал, что я уже догадалась. Мог и не объяснять.
Очередной щелчок по носу.
Повисло молчание.
– Сквалыжная злюка, – изрекла она наконец.
– Сквалыжная злюка? – переспросил я, хотя и сам догадался, о чем она.
Внезапно, сам того не осознав, я понял: я не хочу, чтобы мы слишком сблизились, перешли на личное, завели разговор об этом возникшем между нами электрическом напряжении. Мне рядом с ней припомнилась история о мужчине и женщине, которые знакомятся в поезде и заводят разговор о знакомствах в поезде. Она – из тех, кто обсуждает свои чувства с тем самым незнакомцем, который и заставляет ее их испытывать?
– Клара – сквалыжная злюка. Ты ведь так подумал, да?
Я покачал головой. Лучше молчание. Пока оно вновь не сделается невыносимым. Я что, надул губы, сам того не заметив? Действительно надул.
– Что? – спросила она.
– Вот, возьми хлеб, – сказала она. – И подержи во рту, авось поможет.
Я – Клара, милосердная.
Я взял его, как порою берут носовой платок, без сопротивления, без гордыни, ибо знал – и именно это скрывалось за моей вымученной улыбкой, – что, вопреки своей воле, вопреки всем раскладам, вопреки всем объяснениям, подошел к обрыву столь близко, что теперь осталась одна забота: сделать так, чтобы спазм, который того и гляди вырвется из горла, не оказался рыданием.
Наконец я проглотил хлеб. Она молча следила за движениями моего кадыка.
Потом она повернулась, посмотрела в окно. Она напоминала мне человека, который считает тебе пульс, глядя в сторону, отсчитывает секунды с отрешенным видом. Я не знал, что делать, и потому повернулся тоже и уставился на Гудзон; плечи наши соприкасались – мы понимали, что это безобидный пустяк, и часть моей души так и рвалась показать, что молчание – самое обычное дело между посторонними людьми, которые познакомились на вечеринке и теперь нуждаются в передышке. Мы ничего не сказали по поводу вида, по поводу знакомых и не знакомых ей людей в комнате, по поводу огоньков, мигавших за рекой в Нью-Джерси, по поводу скорбных льдин, старательно сплавлявшихся по течению, будто разбросанное стадо овечек, пастухом при котором – стоящая на приколе баржа, что провожает их светом бдительного прожектора.
Снаружи, на Риверсайд-драйв, стояли в озерах света одинокие фонарные столбы, блестел снег – они были похожи на потерявшийся хор из греческой трагедии, у каждого застывшего чародея на голове сноп пламени. Мы слишком далеко, казалось, говорили они, так что ничего не слышим, но мы знаем и всегда знали про вас.
Она сказала, что любит свежий воздух. Чуть приоткрыла балконную дверь, в комнату вползла студеная струйка. А она шагнула на оказавшийся очень просторным балкон и тут же закурила сигарету. Я шагнул следом. Курю ли я? Я сделал утвердительный жест, а потом вспомнил, что примерно в момент рождения младенца, которому полгода да неделя от роду, дал зарок бросить. Поспешно объяснил. Она извинилась и сказала: никогда больше не станет мне предлагать. Я принялся гадать, содержит ли «никогда больше» добрые предзнаменования, но решил не выискивать скрытых смыслов в каждой ее фразе.
– Я их называю тайными агентами.
– Почему?
– В кино все тайные агенты курят.
– Значит ли это, что у тебя много тайн?
– Это бесцеремонно.
Какой же я глупец!
Она изобразила послевоенного агента, прикуривающего на ходу в темном мощеном переулке старой Вены.
Снаружи над городом висела бледная серебристая дымка. Снегопад не прекращался весь вечер. Она стояла рядом с перилами, двигала ногой, мечтательно разгребала снег замшевой туфелькой, тихо сбрасывала его с кромки. Я смотрел, как снежинки разлетаются по ветру.
Мне нравился этот жест: туфелька, замша, снег, кромка – все это делалось рассеянно, с сигаретой в руке.
Я раньше и не догадывался, что есть особая красота в том, чтобы шагнуть на свежий снег и оставить свои следы. Я всегда пытался избегать снега, холил свою обувь.
С этой высоты багряно-серебристый город казался эфемерным, далеким, потусторонним – зачарованное королевство, сияющие шпили которого молча вздымаются сквозь дымку зимних сумерек, чтобы вступить в беседу со звездами. Я смотрел на свежие борозды от шин на Риверсайд-драйв, на одинокие фонарные столбы со снопами пламени на головах, на автобус, что ковылял сквозь снег – пробрался через перекресток Риверсайд и Сто Двенадцатой улицы и побрел дальше, – сугробы на сутулых плечах, пустая стигийская лодчонка, уходящая к незримым краям и целям. Я, как и Клара, говорил он, доставлю туда, куда ты и не чаял добраться.
Официант сдвинул в сторону балконную дверь и осведомился, не хотим ли мы чего-нибудь выпить. Заметив у него на подносе «Кровавую Мэри», Клара тут же объявила, что будет ее. Официант не успел ничего возразить, а она уже схватила бокал с подноса. Я – Клара. Я всё хватаю. Цвет напитка совпадал с цветом ее блузки. А потом она поставила бокал с широким ободком на балюстраду, закопав основание и часть тонкого конуса в снег – то ли чтобы охладить, то ли чтобы его не перевернуло порывом ветра. Докурив, она загасила окурок носком туфли, а потом аккуратно смахнула его с края, как раньше смахивала снег. Я знал, что этот миг не забуду никогда. Туфельки, бокал, балкон, льдины, плывущие по Гудзону, автобус, ковыляющий по Риверсайд-драйв. О, не шуми, Гудзон, пока я допою.
В тот вечер, но раньше, я сел в такой же автобус, из-за метели напрочь пропустил свою остановку и вышел через целых шесть кварталов от Сто Шестой улицы. Помню, что гадал, где я нахожусь, почему ошибся, чувствовал себя полным идиотом, в руке тащил пакет из дорогого бутика, в котором то и дело позвякивали две бутылки шампанского, хотя продавец и вложил между ними кусок картона. Рядом со Сто Двенадцатой улицей я разглядел сквозь снегопад памятник Сэмюэлу Тилдену – торжественный бесстрастный взгляд, обращенный к западу, – вскарабкался по ступеням и огляделся, пытаясь отвязаться от слюнявого сенбернара, который внезапно объявился на той же горке и, похоже, не собирался от меня отставать. Что лучше – сбежать или, сохраняя спокойствие, делать вид, что я его не замечаю? Тут раздались голоса двух мальчишек – они отзывали собаку. Катились с горки на санках. Пес, который явно запутался в направлении, помчался вслед за ними в парк. А потом – тихая, мирная, блаженная прогулка через шесть этих безлюдных кварталов по переулку, тянущемуся вдоль Риверсайд, изгибами, то внутрь, то наружу, похрустывание льда под снегом. Вспомнились «Бедфорд Фоллз» Капры и «Сен-Реми» Ван Гога, Лейпциг, хоры Баха и то, как ничтожные происшествия порой открывают нам новые миры, здания, людей, даруя неожиданные лица, которые уже никогда не захочется утратить. Сен-Реми, городок, где Нострадамус и Ван Гог ходили по одним и тем же тротуарам, где пересекались пути ясновидящего и безумца, они приветственно кивали друг другу, разделенные столетиями.
Глядя с тротуара на окна наверху, я воображал себе дружные довольные семейства, где дети вовремя садятся делать уроки, а гости, которым страшно не хочется уходить, оживляют разговором ужины, хотя супруги за столом по большей части молчат. С балкона, где мы сейчас стояли, история со страшным сенбернаром выглядела глухой древностью. Я вспомнил, что подумал про средневековые рождественские городки на Эльбе и Рейне, тем более что совсем рядом над Сто Двенадцатой улицей и рекою нависал собор. Чтобы обеспечить себе положенное опоздание и чуть больше, я обошел квартал, оказался на Бродвее рядом с парком Штрауса, радуясь, что могу еще передумать и вообще не ходить на вечеринку, тем более теперь, когда желание почти испарилось – я даже поймал себя на том, что выдумываю убедительные оправдания, чтобы развернуться и отправиться домой, но при этом сжимаю в руке пригласительную открытку, на которой золотой филигранью отпечатан адрес. Линии были такими тонкими, что не прочитать, и меня уже подмывало спросить дорогу у ближайшего фонаря – ведь и он, как я, заплутал и застыл средь вьюги, хотя добросовестно отбрасывал весь оставшийся у него свет, чтобы помочь мне прочитать то, что стало напоминать призрачные катрены, выведенные прихотливым почерком самого Нострадамуса. Чтобы убить время, я отыскал маленькую кофейню и попросил чая.
А теперь я здесь, теперь я с Кларой.
Проглотив Манкевича и едва не подавившись куском перца, я стоял на балконе над Манхэттеном, уже помышляя о том, чтобы завтра ночью вернуться на Сто Шестую улицу, пересмотреть в памяти весь этот вечер – неспешно, размеренно: собор, парк, снег, золотую филигрань, фонарные столбы с пламенеющими головами. Я бросил взгляд вниз: если бы это было возможно, я подал бы себе, подходившему к этому дому несколько часов назад, знак, предупредил, чтобы он откладывал приход как можно дольше, – сперва полшага, потом половину от этого полшага, потом половину половины этого полшага – так поступают суеверные люди, когда, робко протянув руку, потом отталкивают ту самую вещь, о которой мечтают, потому что боятся: если не оттолкнуть подальше, она никогда тебе не достанется – асимптота ходьбы и желания.
Обнять ее за талию? Асимптотически?
Я попытался отвести от нее глаза. Видимо, она тоже смотрела в сторону, мы оба уставились в вечернее небо, которое рассекал блеклый неверный голубоватый луч прожектора, исходивший из неведомого угла на Верхнем Вест-Сайде; он брел на ощупь через пятнистую ночь, будто в поисках чего-то невнятного – он и не надеялся этого найти, описывал над нами дугу за дугой, точно тощий острокрылый римский ворон, что каждый раз промахивался, когда пытался сесть на карфагенский корабль-призрак.
Сегодня волхвы точно заблудятся, хотел сказать я.
Но оставил слова при себе, гадая, долго ли мы будем вот так стоять, глядя во тьму, следя за молчаливым скольжением луча прожектора – будто это захватывающее зрелище, ради которого стоит помолчать. Может, прискучив движением по небу, луч остановится на чем-то, о чем можно поговорить, – возможно, в этом случае темой беседы станет сам луч. Интересно, что им хотят высветить. Или: что его испускает? Или: почему он смещается вниз всякий раз, как доходит до самого северного шпиля? Или: такое ощущение, что мы попали в Лондон, а это – Блиц. Или в Монтевидео. Или в Белладжо. А может, был другой, неуловимый вопрос, который я все пытался выкрутить из себя, будто и внутри меня шарил крошечный луч прожектора, вопрос, который я и задать-то не мог, а уж тем более дать на него ответ, но задать был должен – про себя, про нее, и назад ко мне – потому что я знал, что шагнул внутрь крошечного чуда в тот самый миг, когда мы вышли на балкон посмотреть на этот ирреальный город, и поэтому должен был знать, что и она думает то же самое, иначе мне не поверить.
– Белладжо, – произнес я.
– Чего – Белладжо?
– Белладжо – крошечная деревушка на мысу на озере Комо.
– Знаю я Белладжо. Я там была.
Опять срезала.
– В некоторые особенные вечера Белладжо оказывается совсем рядом – озаренный огнями рай, всего-то в паре гребков веслом от берега озера Комо. В другие вечера до него не фурлонг, а много лиг и целая жизнь – не доберешься. И вот сейчас настал миг Белладжо.
– Что такое миг Белладжо?
Или мы не говорим на зашифрованном языке, ты и я, Клара? Я ступал по яичной скорлупе. Часть души не хотела знать, куда меня несет, другая понимала, что я преднамеренно забираюсь в опасные места.
– Тебе правда интересно?
– Может, и неинтересно.
– Значит, ты уже догадалась. Жизнь на другом берегу. Жизнь, какой она быть должна, не та, которую мы проживаем. Белладжо, не Нью-Джерси. Византия.
– Первые твои слова были правдой.
– Которые?
– Когда ты сказал, что я уже догадалась. Мог и не объяснять.
Очередной щелчок по носу.
Повисло молчание.
– Сквалыжная злюка, – изрекла она наконец.
– Сквалыжная злюка? – переспросил я, хотя и сам догадался, о чем она.
Внезапно, сам того не осознав, я понял: я не хочу, чтобы мы слишком сблизились, перешли на личное, завели разговор об этом возникшем между нами электрическом напряжении. Мне рядом с ней припомнилась история о мужчине и женщине, которые знакомятся в поезде и заводят разговор о знакомствах в поезде. Она – из тех, кто обсуждает свои чувства с тем самым незнакомцем, который и заставляет ее их испытывать?
– Клара – сквалыжная злюка. Ты ведь так подумал, да?
Я покачал головой. Лучше молчание. Пока оно вновь не сделается невыносимым. Я что, надул губы, сам того не заметив? Действительно надул.
– Что? – спросила она.