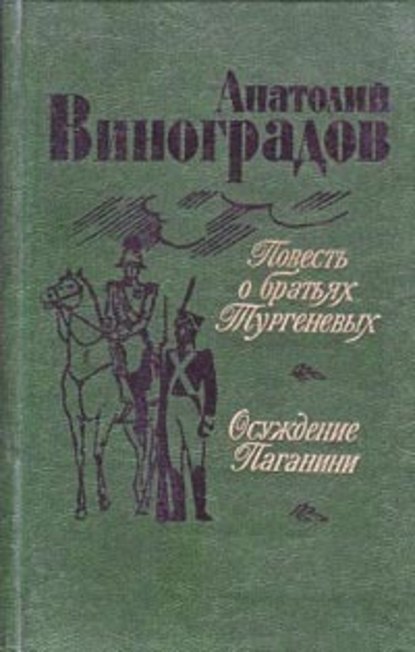По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Осуждение Паганини
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гаррис вернулся в Лукку. Трудно было понять Паганини, что делает его друг, но Гаррис великолепно понимал, что делает Паганини. Ньекко узнал от Гарриса о жизни Паганини в Ливорно, Гаррис сообщил ему о попытках вырвать из рук Паганини драгоценную скрипку Гварнери. Он сообщил и о другом, весьма таинственном предложении, которое не дошло до Паганини и было вовремя перехвачено его другом. В последние дни пребывания Паганини в Ливорно мистер Гаррис имел возможность убедиться, что человек, достаточно могущественный, был заинтересован в том, чтобы синьор Паганини как можно скорей уехал из Ливорно, и даже из Италии, и даже, как казалось Гаррису, исчез бы из жизни.
– Князь Боргезе, – говорил Гаррис, – первоначально соблазнял синьора Паганини предложением купить скрипку, а следующим планом его было предложить Паганини выгодный ангажемент в Петербург. Там, при дворе русского царя, некий граф Жозеф де Местр устроил бы его дела.
Ньекко хорошо знал, о каком Боргезе идет речь. Этот добродушный князь был страшным врагом французов и французской политики. Ньекко много слышал об этом человеке. Осколки огромного сосуда всевозможных ядов, именуемого обществом Иисуса, были разбросаны по Италии, и вот одним из очень крупных осколков иезуитского ордена, упраздненного папой Климентом XIV, был князь Боргезе, полный, кривоногий, веселый и добродушный человек. Ньекко знал этого старика с его обаятельным добродушием, всепрощением, чрезвычайной снисходительностью к человеческим грехам, с пристрастием к употреблению зеленых, лиловых и красных ликеров в неимоверных количествах, с его проповедью большого снисхождения к человеческим слабостям. Князь Боргеэе любил говорить, обращаясь главным образом к семинаристам, что человек, допускающий культ Вакха и Венеры, всегда доступен раскаянию и божье милосердие всегда может вернуться к нему. Но человек, погрязший в гордыне трезвости, щепетильности и порядочности, является очень опасным для церкви, так как имеет склонность к свободе ума, к вольномыслию и ко всем опасным соблазнам разума. От них все несчастия нынешнего века.
Ньекко знал, что под маской добродушия и смирения князь Боргезе, никогда не носивший никакой культовой одежды, таит в себе опасного иезуита, очень жестокого инквизитора, будучи одной из тех ищеек святой апостольской курии, которые везде проникают и все вынюхивают. По внешности спокойный, приветливый толстяк, снисходительный старый греховодник, а по внутренней сущности – достойный представитель того страшного ордена, члены которого назывались доминиканцами, по имени святого Доминика, а писали свое наименование двумя латинскими словами: Domini canes – собаки господа. Эти псы господни вынюхивали следы новых сынов итальянской свободы, карбонариев, и те кончали жизнь в подземных колодцах Мантуи, под свинцовой крышей венецианского Дворца дожей, под капелью сырых подвалов венецианских тюрем, расположенных уже гораздо ниже уровня дна лагун и каналов, в круглых котлах, где едва помещался сидя человек, в глухих страшных каменных ямах, которые теперь еще показывают в Замке святого ангела. Вот этот князь Боргезе чрезвычайно интересовался синьором Паганини.
Однажды Паганини, встревоженный, прибежал к синьору Ньекко и сообщил ему, что местный комиссар полиции только что был в гостинице и справлялся о том, когда синьор Паганини намерен выехать в город Геную по требованию своего отца.
– Я только что послал деньги старику, – месяца не прошло с тех пор, как моя семья получила деньги. И вот на эти деньги организованы поиски меня с полицией. Что мне делать?
Ньекко задумался.
– Ты не хочешь возвращаться в Геную?
– Ни за что в жизни!
Паганини показал Ньекко письмо, полученное в луккской полиции и оставленное для него в гостинице.
Синьор Антонио Паганини категорически приказывает сыну выехать немедленно в Геную, вернуться в отчий дом под угрозой отцовского проклятия и привлечения к суду святой инквизиции.
– Надо бежать, – сказал Паганини. – Но куда?
Синьор Ньекко с видом опытного человека сказал:
– От полиции надо скрываться туда, где она не станет тебя искать.
К вечеру синьор Паганини был в небольшом горном монастыре. При нем были документы, удостоверяющие, что он является семинаристом, преподавателем латинского языка в городе Турине, и зовут его Джузеппе Пазиэлло. Паганини вскоре заметил свою оплошность: ни слова не говоря по-латыни, он каждую минуту рисковал быть раскрытым. Но монашеская братия была сама настолько невежественна, что не обратила ровно никакого внимания на нечесаного семинариста, которому приказано было пожить некоторое время в монастыре для приведения в порядок своей совести, отягченной незначительным прегрешением, связанным с забавами Вакха и Венеры. Плохо было то, что Паганини почти забыл правила покаяния. Но самое худшее случилось с ним утром следующего дня, когда, выйдя в сад и присев на скамейку среди маслин, он заметил, как приоткрылась калитка и показалась косматая голова человека с красными веками и сизым носом. У Паганини застучали зубы и кровь застыла в жилах при воспоминании о тех минутах, когда он видел этого человека впервые. Это был бродяга, игравший на его скрипке где-то в овраге за стенами Ливорно. Этот человек отворил калитку и вошел в монастырский сад. Монастырский привратник махнул ему рукой, и оба скрылись в погребе.
Паганини всю ночь не сомкнул глаз в своей маленькой комнатке, выходившей единственным окошком – вровень с землею – на дорожку монастырского сада. Он ворочался с боку на бок и не спал. К утру молодость взяла, однако, свое. Тяжелый сон внезапно сковал веки Паганини. Проснулся внезапно, обливаясь холодным потом. Зубы у него стучали: по коридору ясно раздались тихие, неуверенные шаги, и вот за дверью стал кто-то.
Задыхаясь, Паганини схватился за ворот рубахи, ему хотелось закричать, и в то же время он чувствовал, что его сковывает полное оцепенение. В этом состоянии он проснулся. Это был сон во сне. Яркое солнце заглядывало в келью. Первое, что пришло в голову, – взять скрипку и передать смычком, в звуках, ужас этого сна, но он вспомнил, что нет скрипки, что всё имущество осталось у Ньекко, в маленьком домике при выезде из Лукки на юг.
Очевидно, было очень рано, роса еще не сошла с деревьев, и на мягкой траве в саду остались большие ярко-зеленые полосы от шагов Паганини, когда он подошел к садовому колодцу умыться. Между фруктовыми деревьями в конце сада виднелась маленькая низкая калитка, в которую вчера вошел испугавший Паганини человек. Калитка была снова открыта. Неудержимое желание бежать из монастыря внезапно охватило Паганини, и он, рискуя встретиться со сторожем или – еще хуже – с тем страшным человеком, осторожно подошел к калитке. Колебания длились секунду. Ньекко, очевидно, предупредил своих людей за монастырской оградой, и пребывание Паганини в монастыре было вполне безопасным, но все ли знал Ньекко о монастырском привратнике?
Переступив порог, тревожно оглядевшись по сторонам, Паганини с радостью увидел себя на одинокой тропинке, ведущей в горы. Он решил пойти по этой тропинке и потом без дороги свернуть на восток и выйти на большой просторный путь в Лукку. С горы он вскоре увидел белесоватую каменистую дорогу. Нагруженные ослики медленно двигались по ней. Почтовая карета. полнимая пыль, скрылась за поворотом, оглашая воздух звуками рога.
Изголодавшийся и усталый, едва волоча ноги, пришел Паганини в Лукку. Никто не обратил на него внимания, так как пыльная одежда, запыленные волосы, покрасневшие веки – все это сделало его до такой степени похожим на бродячего монаха, нищего, ничем не выделяющегося из двухсот тысяч таких же бродяг Северной Италии, что Паганини искренно подивился мастерству синьора Ньекко в маскировке тех, кому нужно было укрыться от полиции.
Паганини постучал в дверь. Отперла старуха. Ворча и ругаясь, она прогнала Паганини от двери. Паганини настойчиво снова попросил вызвать синьора Ньекко, и успокоил ее, заявив, что не нуждается в милостыне. Послышались знакомые шаги. Ньекко, улыбаясь каким-то своим мыслям, с удивлением смотрел на нищего. Лицо его сделалось озабоченным, он взял Паганини за руку, провел в коридор. Когда они очутились в маленькой комнате, отведенной, очевидно, для прислуги, он сказал:
– Ну, говори, в чем дело.
Паганини устало опустился на скамейку. Кружка с козьим молоком привлекла его внимание, и, не ответив Ньекко, он с жадностью стал пить.
– Боже мой, случилось что-нибудь?
– Ровно ничего. Где моя скрипка? – спросил Паганини.
– Что-нибудь одно, – ответил Ньекко, – или скрываться серьезно, или ехать в Геную. А впрочем... – тут Ньекко погладил себе ладонью лоб, – У меня есть еще один план. Оставайся у меня. Но только ты должен немедленно переодеться.
Глава пятнадцатая
Тюльпаны и гитара
В день, когда полиция предложила Паганини вернуться к отцу, Ньекко не решался передать своему молодому другу письмо, присланное на имя Паганини с приглашением провести вечер за пределами Лукки. Веселый проницательный ум синьора Франческо подсказал ему, что здесь готовится какая-то не совсем простая любовная интрига. Почерк был известен синьору Франческо. Ньекко счел необходимым ознакомиться с содержанием письма. Вот об этом письме и вспомнил он, как только увидел, что Паганини не выдержал даже одного дня в монастыре.
Ньекко нашел посланного в условленном месте и сообщил, что лошади за его молодым другом могут быть присланы в любой час. Перед наступлением вечерней зари следующего дня пара красивых вороных лошадей подъехала к дому синьора Ньекко. Паганини, расфранченный и смеющийся, махая рукою, прощался со своим другом.
Прекрасные лошади, черный лакированный экипаж. Красивая дорога, вьющаяся по горному склону, потом лес, потом опять склоны гор, и на следующем подъеме – старый, прекрасно расположенный дом. Двое слуг, любезных и предупредительных, канделябры, на столе три прибора. Каково было удивление Паганини, когда вместо почтенного седого владельца замка, которого он ожидал увидеть, появилась черноглазая девушка лет восемнадцати и направилась прямо к тому месту, где сидел он. Через секунду к ней присоединилась женщина лет сорока пяти, отнюдь не похожая на мать или родственницу девушки. Молодая хозяйка приветствовала Паганини с той большой смелостью существа, привыкшего распоряжаться собой, которая отличала в эти годы представительниц знатных итальянских семей, рано предоставленных самим себе и в эти бурные годы оценивших всю прелесть ранней самостоятельности.
Эта черноглазая молодая женщина легкой походкой подошла к Паганини, смело посмотрела на него, не дерзко, но почти насмешливо протянула ему руку для поцелуя.
– Я слышала вас три раза, – сказала она. – Я хотела вас поблагодарить.
Потом, не представив гостю своей спутницы, она предложила им занять места. Был легкий ужин, было веселое, легкое пенящееся вино, была та счастливая легкость в беседе, которую старые итальянцы называли desinvoltura – непринужденность, не переходящая границ. Но Паганини чувствовал себя неловко, прятал руки, смущенно улыбался и был взволнован.
Молодая, рано осиротевшая хозяйка, очевидно, вела свободный и открытый образ жизни. Когда убрали со стола, она села на большой, широкий диван, взяла гитару. Она хорошо пела. Голос был мягкий, но небольшой. Она хорошо играла на гитаре, но Паганини почувствовал, что она не обладает ни большим вкусом, ни пониманием музыки.
Самое странное для Паганини во всем этом вечере было то, что эта девушка – или молодая женщина – ни разу не спросила его о нем самом. Она очень много говорила о себе, о своем обширном поместье. Когда она смотрела на Паганини, глаза ее загорались, и яркий, неожиданно вспыхивающий румянец выдавал бесповоротную решимость отдаться охватившему ее чувству.
Та легкость, с какой она овладела вниманием взволнованного Паганини, та простота, с которой она, даже не думая об этом, как будто это было вполне естественно, завладела его временем, то обращение, которое возможно было, по мнению Паганини, только после длительного знакомства, – все это вначале вызывало в Паганини большое удивление, но удивление не неприятное, – наоборот, он сам охотно, не без порывистости, шел навстречу желаниям хозяйки. Он делал вид, что ничуть не смущен этой непривычной для него непринужденностью обращения.
Паганини привык к приглашениям на концерты в кругу небольшого количества друзей какой-либо знатной и богатой семьи. Здесь этого не было, здесь не было и намека на приглашение с оплатой, это не было похоже на «наем» знаменитого скрипача богатым человеком на целый вечер. Какова была природа увлечения этой женщины, Паганини не мог разгадать, в то же время эта луккская аристократка не производила впечатления женщины, ищущей легкой связи.
Спутница молодой красавицы тихо и незаметно исчезла из комнаты. Хозяйка встала, взяла с этажерки коробочку из красного сафьяна и, достав оттуда записку, внимательно прочитала ее и положила обратно. Потом вдруг, обращаясь к Паганини и прерывая начатую беседу, произнесла как бы в забытьи:
– Уже поздно. Синьор Ньекко пишет, что вам опасно оставаться в Лукке. Я не спрашивала вас ни о чем, потому что я не любопытна. А потом – к чему вас спрашивать, когда судьба ваша уже решена.
Брови ее сдвинулись, на лице появилось выражение гнева, как будто, произнося эти фразы, женщина хотела побороть свою беспомощность. Паганини смотрел и слушал с удивлением, все больше и больше возраставшим.
И выражение лица и построение фраз – все свидетельствовало о том, что его собеседница не теряет рассудка ни на мгновение, а спокойствие, с которым она произносила самые беспокойныефразы, и та уверенность, с которой она обращалась к Паганини, были полны для молодого музыканта загадочности, словно они говорили о какой-то странной обреченности этой женщины. На мгновение ему показалось, что все действительно давным-давно решено и что эта женщина – исполнительница какой-то чужой воли, которой она сама не знает. Ему казалось, что это состояние зачарованности. это сомнамбулическое внушение себе какого-то чувства должно прерваться, и он уже боялся этой минуты.
С каждой улыбкой, каждой новой фразой обаяние этой женщины становилось все неотразимее.
– Я думала, что вы поживете у меня три дня, но так как вам нельзя возвращаться в Лукку... – женщина остановилась, причем не было и намека на то, что она ищет продолжение фразы и не находит подходящих слов. Она так и не кончила фразы. Смотря куда-то в сторону, она сказала: – Я больше всего люблю свои сады, свои гряды с тюльпанами. Я считаю, что вы поступите очень благоразумно, если, полюбив меня, вы полюбите все эти вещи вместе со мною.
Потом, звонким смехом прерывая самое себя и словно пробуждая Паганини от сна, проговорила:
– Как хорошо, что вы забыли вашу скрипку! Вы найдете здесь отдых, вы найдете покой. Но я не хочу вас видеть с вашей скрипкой.
* * *
Никто не спрашивал в течение целого года синьору графиню о длинноволосом, загорелом и черноглазом садоводе в коричневом камзоле, черных чулках и черных туфлях, поливающем тюльпаны в замке. По утрам, после кофе с бисквитами, синьор Паганини, огородник и садовник, вооруженный ножницами, пилой или садовым ножом, боролся с засохшими сучьями, с древесными наплывами, с болезнями фруктовых деревьев, с гусеницами, нападающими на тюльпановые листья.
Давно была забыта скрипка, и никто не узнал бы в этом высоком поздоровевшем человеке знаменитого скрипача, в таком раннем возрасте сумевшего свести с ума требовательную толпу северо-итальянских городов. Паганини засыпал в объятиях своей подруги, играл на гитаре, сочинял небольшие музыкальные пьесы в честь возлюбленной. Он старался забыть свое прошлое, не прикасаться к нему. Первые ли удары жизни были тому виной, или искалеченное детство давало себя знать, но сои, овладевший его душой, становился все крепче. По мере того как укреплялось здоровье Паганини, движения становились медленней и размеренней, дни стали похожими друг на друга.
Четыре раза в год срезал он цветы, дважды в год, осенью и весной, собирал урожай ранних фруктов.