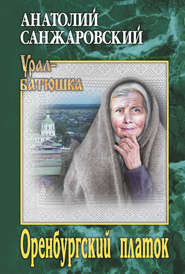По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сибирская роза (сборник)
Серия
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Симптоматическое лечение сводится не только к ликвидации одного тягостного для больного симптома, но и к разрыву цепи взаимосвязанных и взаимообусловленных нарушений в организме, одним из звеньев которой является данный симптом…» Фу, псарня тя прихвати, еле прожевала! В книжке всё ловко, всё ладь да гладь. Да только в себе чтой-то я не чувствую разрыва этой распроклятущей цепи… Как же, жди! Воздух разорвёт, морфий разорвёт… Что ж оне в стационарике не разрывали? Иля дома в чём сподручней? Ой лё… Пока дождь с земли на небо не падывал…
Катя задумалась, отсутствующе вперилась в бледную потолочную немочь.
– Знаете, Таис Викторна… – заговорила, не убирая слабых, покинутых глаз с потолка. – Вы знаете, про что я думаю на отходе?
– Скажешь… узна?ю…
– Про нашу хвалёнку учёную медицину. Вы не подсчитывали, эсколь у нас академиков, профессоров, кандидатов там разных?.. До лешего! Чёрт на печку не вскинет. Брось палку в собаку, а попадёшь в академика. И чем же эта учёная орда пробавляется? Тут тёмный лес… А никакой просветки! Вроде летом и лёд не сушит, и баклушки не сбивает, но и пользы нам, кого боль ломом ломит, ни на грошик. Книжульки лепят, диссертации друг у дружки переворовывают… Ихними кирпичами все склады под верх забиты. Складам горе, а нам вдвоя… Сдвинуться с ума… Чиликают в тех писаниях про рак. А рак неграмотный. Тех писаний вумных не читает. Он как лопал бедолаг, так и лопает… так и лопает… А ну выложи те книжки в один порядок… Коль не хватит на выстелить дорогу до Луны… до кладбища помилуй как хватит. Даже останется… Ой… Наплантовала я вам семь бочек арестантов…
Катя приподнялась на локтях, посветила обречённой улыбкой.
– Я всёжки счастливей Нины. Лежали мы с ей в стационарке койка к койке вприжим. Задружились. У нас же всё однаковое… И года наши, и болячки, и семьи. Всё горем горевали, да как это спокидать мужиков однех с детишками в малом виде?.. Аха-а… Мой-то, похоже, не ротозиня, пооборотистей её Слепушкина. Как списали меня с диспансера, я и вижу, нараз[8 - Нараз – сразу.] совсемко прокис. Ни жив ни мёртв таскает ноги. То был… Он у меня, извиняюсь на слове, регулярный воин. Без ласки не заснёт. А тут не то что ласки, разговоров на эту тему не подымает. Иль тоска его задавила, до время хоронит меня, иль наискал чего на стороне? Я говорю: «Как на духу сознавайся, уже завёл ночну пристёжку?» Клянётся-божится: нет и нетушки и на план не занашивал. Вот, напрямок отстёгиваю, за это-то – и на план не занашивал! – я те и повыцарапаю ленивы глазюки! Нашёл чем фанфарониться! Напрок[9 - Напрок – на будущее, наперёд.] обдумляй… Я не нонь-завтра перекинусь, кто детишкам уход даст? Кто накормит? Кто поджалеет?.. Ты на ночь добра не лови – на жизнь ищи! Чтоб была моей фасонности… Всё вам не проходить деньги[10 - Проходить деньги – истратить деньги.] на одёжку ей… Я б отдарила ей всё своё, вплоть до нашиванки[11 - Нашиванка – праздничный цветастый платок.]… Ежли не возбрезгует… Да и… Увидишь ты её в моём и подумаешь – я это… И тебе было б легче, и мне, может, там будет легче, что ты не забываешь меня… Ну!.. Намечталась… Через неделю чтоб как штык стояла туточки твоя чепурилка… Покажешь… Игнатик мой вялую руку к виску, как-то подбито поклонился. Слушаюсь! И через неделю потомяча мой леший красноплеший притаранил-таки! Навпримерно моих так лет. С ловкой фигуркой… Лицо смешливое, простецкое, в золотых конопушках. Свеженька, опрятненька так… Думаю, чисто себя водит. С одуванчиком[12 - Одуванчик – марлевая косынка.] на голове. В нарядной коротенькой татьянке[13 - Татьянка – юбка в мелкую оборку.]… Ну, лежу я… Ни суха ни мокра… Мне ни хорошо ни плохо. Как-то навроде и без разницы… Всё гадаю, ну а будет она моим горюшатам мать але ведьма? Вроде б так к матери ближе… Не какая там бардашная девка… Не распустёха… Мне девчошечка поглянулась… Красивая… Ну, красоту не лизать. Жили б в одно сердце… Ну, стала она захаживать. То постирает что, то сготовит да меня ж и подкормит… Мы дажеть немноженьку сошлись… Какой-то особенной любови я промежду ними не вижу. Да оно и к лучшему. Надо порядок додержать. Уж как сойду, наполно развяжу им руки. Я покойна… Муж, робятки не будут у такой сиротами. Наказываю ей: «Ты за самим зорче карауль. А то он рюмашке мастак кланяться. Не давай ему воли выше глаз. Сгорит же с вина!..» Ухватила кавалерка моего пантюху крепонько, ни разу не был при ней и под малым градусом. Мой даже взглядывает на неё слегка полохливо. А ничё… Мужик в строгости не испортится… Я сделала, что могла… Семья без меня не падёт. Это главное… На душе тихий рай. Покойность… Можно и в отход… чем так мучиться…
Катя вдруг сморщилась, закрыла лицо руками и заплакала навскрик.
– Доктор! Миленька!.. Брешу, брешу всё я! Каки ни египетски боли, а помирать больней! Тупая… спесивая… распроклятка наука! Чем помирать по этой науке, лучше жить без науки! Таис Викторна, миленька, – изнурённо зашептала Катя, – поджалейте мою молодость. Помогите!.. Морфий добьёт… Как Нинушку!.. Я слыхала… Слухи бегают… сурьма помогает…
– Не знаю, Катюша, помощница ль тебе сурьма, – на раздумах проронила Таисия Викторовна. Вспомнила о своём борце, опасливо добавила:
– Вот травки…
– Травок-то полны леса. Да тольке наросла ль травка от погибели?
– Нарос… ла… – заикаясь, ответила Таисия Викторовна. Ладони у неё запотели, невесть отчего перехватило дыхание. Ей стало вдруг страшно, страшно оттого, что делает она что-то такое, чего не следовало бы вовсе и делать. – На траве сидеть, траву пить… – машинально проговорились сами собою эти слова. – Вот… – нервно достала из сумочки кроху-флакончик. – Это настойка. Должна бы помочь…
Было такое чувство, будто этот флаконишко жёг ей пальцы, и она суетливо поставила его на тумбочку у Катиного изголовья.
– Я ведь, К-катюша… В голове гудит, как на вокзале… Уж сколько дней хожу по больным по своим с этим борцом… А предложить боюсь… Ядовитый корешок…
Катя посмелела глазами.
– Да не ядовитей морфия! А отравиться и морковкой можно. Вон врач прописал одной моей знакомке морковный сок. Уж чего проще! Знакомка и рада стараться. Навалилась хлестать почёмушки зря. За раз выдудолила четверть и откинула варежки.
– Осторожничай… Не дай бог из детворы кто хватит.
– Таисия Викторовна! Миленькая! Не беспокойтесь, лиха сна не знайте. От детворы уж уберегу. А самой чего лишко хлебать? Каку дозу проскажете, та и моя.
– Доза нехитрая. В первую неделю по две капли три раза в день за пятнадцать-двадцать минут до еды. Пипеткой накапай в стопочку с сырой водой и пей. Во вторую неделю прибавляешь на одну каплюшку, в третью ещё на одну и так поднимаешь до десяти. Потом в каждую неделю сбрасываешь по капле, срезаешь норму до исходной – две капли. Ты у нас гинекологичка. Тебе надо и спринцеваться… Десять капель на пол-литра воды… Ты молодая, крепковатая, не очень запущенная… Я с тобой, шевелилочка, в полгода разделаюсь, как повар с картошкой.
– Уврачуете?.. Поднимите? – робко уточнила Катя.
Таисия Викторовна всплеснула руками.
– О! Да ты вся выпугалась в смерть. Думаешь, а чего это я тебе навяливаю? Не трусь. Это настойка борца. Две настаивала недели… Пять грамм корня на сто двадцать пять грамм семидесятиградусного спирта. Не бойся, свою настоюшку я уже проверила дома на коте на своём, на собаке Буяне, а вперёд на самой себе. Не баран чихал! Пила по граммульке сперва. Безвкусная. – Таисия Викторовна глянула на флакон на тумбочке. – Никакого яда не слышно. Цветом золотится. Вишь, похожа на коньяк. Коту подпускала в молоко, в суп. На пятой капле забастовал мой Мурчик, не стал лизать молоко. На пятой капле я и сама уловила лёгкий яд… Как-то угнетает, вдавливает в тоску… Но видишь, цела, не рассыпалась вдребезь…
А ночью Таисии Викторовне приснился сон.
Увидела она себя совсем маленькой. Гимназисточкой-первоклашкой.
Весна сдёрнула с земли снега; надёжно живило душу тепло.
Таюшка в белом платьице, на головке венок из ромашек. Вприскок бежит счастливая по лугу ромашковому, несёт перед собой мотылька на раскрытой розовой ладонке, в радости щебечет:
– Расскажи, мотылёк,
Как живёшь ты, дружок,
Как тебе не устать
День-деньской всё летать.
И в тон ей звончато отвечает с ладошки мотылёк:
– Я живу средь лугов
В блеске летнего дня.
Аромат из цветов —
Вот вся пища моя.
Но короток мой день,
Он не более дня.
Будь же добр, человек,
И не трогай меня.
4
Отслоилось несколько месяцев.
Таисия Викторовна привернула к Маше-татарочке. Всегда мягкая, всегда стеснительная Маша ожгла её холодным, обиженным взглядом.
– Когда раздавали мудрость, в мой мешок ничаво не попал! – чуже посыпала Маша словами. – Пускай я балда осиновая, глупи, но я напрямки искажу… Я, докторица, на тебе пообиделась. Ай как сильно пообиделась, один Аллах знай!
– Маша! Милуша! Да за что? – Таисия Викторовна бочком подлепилась на кровати к больной. – Давай сядем криво да поговорим прямо.
– У тебе одна больной – эта! – вскинула Маша большой палец. – Другая больной – эта! – выставила мизинец. – Я эта больной! – Она пошатала мизинец.
– Маша! Не неси греха на душу. У меня все больнуши равны.
– Не все, не все… Ты зенкалки болшой не делай… Я совсема здыхот[14 - Здыхот – больной.]… Кабы был мне сил, я б отворотился от тебе… К стенке поворотился ба… Одна стенка чесни… Я всю недель рыдал, как буйвол… Мне не был так чижало, когда работал землеройкой[15 - Землеройка – работница овощной базы.], когда таскал потомяча на стройке кирпич на тачка… Машина такая ОСО, две ручки и колесо…
Таисия Викторовна растерянно заозиралась. «Где же это я напрокудила? Чего ещё накуролесила? Вроде вина за мной никакая не бегает… Неужели кто на хвосте сплетни нанёс?»
Замешательство врача вытягивает из больной огонь злости, и Маша ворчит уже тише, смятенно жалуясь:
– Равны… Кабы был равны, так ба я тожа пел. Игнатиха – вота где раздуй кадило![16 - Раздуй кадило – об озорном человеке.] – по телефон, как нарочи[17 - Нарочи – нарочно.], уже мал мала хулиганисто песняга поёт:
Кабы знала-перезнала,
Где мне замужем бывать,
Пособила бы свекровушке
Капусту поливать.
Я, простячка, такой песняга не пою. Мой песня коротки… Мой песня одна: ох-ох-ох. Припевка тожа одна: ой-ой-ой… Бессовесни Игнатиха выхваляется: боль уж малешко. – Маша чуть развела указательный и большой пальцы. – Кушает, как слон. Спит, как медведе в берлоге зимой. Как мы равны? Я не сплю… Ночку кричу, деньский день кричу без перерыв на завтрик, на обед, на вечерю. Совсемушка ничаво кушать не хочу… Высох… Паличка… Вес сорок один кило. Хорошая барашка болша тянет… Сила из мне утекла… Совсемко моя жизнуха размахрявилась… К больному даже муха пристаёт… Я такой здыхот, такой здыхот… Шла на Плеханова… Нет… Это трамвай шла на Плеханова. А я стояла. Трамвай шла мимо и сдула меня. Ветром от трамвая сдуло! О, как вы, врачея, лечите… Прошу своих: не троньте, не шевелите мне… Мне к земле тянет… К земле… Говорят, жизнь – колесо: то поднимется, то придавит. А мне всю времю давит, давит… давит… Моя мужа на война голова положил… Как хорошо, что до войны я обдетилась. Четыре детишка у мне… Разве я могу помирать? Не могу. Нельзя… Запрещается… Давай нараз, золотая докторица, твои золоты капельки! Почё не даёшь?.. Я тожа хочу кушать, как слон, спать, как медведе, петь, как бессовесни Игнатиха… Когда подковывают коня, лягушка тожа протягивает лапку…
– И умно делает! – воскликнула Таисия Викторовна, довольная желанным поворотом встречи. – Катящийся камень, Машенька, отшлифуется, лежачий – покроется мхом… Дам я тебе свои капельки. Только ты уж не копи на меня зла… Я почему раньше не давала тебе? Корпело сперва твёрдо разведать, как работают мои капельки. Горелось закончить полный курс хоть на одной больной…
Катя задумалась, отсутствующе вперилась в бледную потолочную немочь.
– Знаете, Таис Викторна… – заговорила, не убирая слабых, покинутых глаз с потолка. – Вы знаете, про что я думаю на отходе?
– Скажешь… узна?ю…
– Про нашу хвалёнку учёную медицину. Вы не подсчитывали, эсколь у нас академиков, профессоров, кандидатов там разных?.. До лешего! Чёрт на печку не вскинет. Брось палку в собаку, а попадёшь в академика. И чем же эта учёная орда пробавляется? Тут тёмный лес… А никакой просветки! Вроде летом и лёд не сушит, и баклушки не сбивает, но и пользы нам, кого боль ломом ломит, ни на грошик. Книжульки лепят, диссертации друг у дружки переворовывают… Ихними кирпичами все склады под верх забиты. Складам горе, а нам вдвоя… Сдвинуться с ума… Чиликают в тех писаниях про рак. А рак неграмотный. Тех писаний вумных не читает. Он как лопал бедолаг, так и лопает… так и лопает… А ну выложи те книжки в один порядок… Коль не хватит на выстелить дорогу до Луны… до кладбища помилуй как хватит. Даже останется… Ой… Наплантовала я вам семь бочек арестантов…
Катя приподнялась на локтях, посветила обречённой улыбкой.
– Я всёжки счастливей Нины. Лежали мы с ей в стационарке койка к койке вприжим. Задружились. У нас же всё однаковое… И года наши, и болячки, и семьи. Всё горем горевали, да как это спокидать мужиков однех с детишками в малом виде?.. Аха-а… Мой-то, похоже, не ротозиня, пооборотистей её Слепушкина. Как списали меня с диспансера, я и вижу, нараз[8 - Нараз – сразу.] совсемко прокис. Ни жив ни мёртв таскает ноги. То был… Он у меня, извиняюсь на слове, регулярный воин. Без ласки не заснёт. А тут не то что ласки, разговоров на эту тему не подымает. Иль тоска его задавила, до время хоронит меня, иль наискал чего на стороне? Я говорю: «Как на духу сознавайся, уже завёл ночну пристёжку?» Клянётся-божится: нет и нетушки и на план не занашивал. Вот, напрямок отстёгиваю, за это-то – и на план не занашивал! – я те и повыцарапаю ленивы глазюки! Нашёл чем фанфарониться! Напрок[9 - Напрок – на будущее, наперёд.] обдумляй… Я не нонь-завтра перекинусь, кто детишкам уход даст? Кто накормит? Кто поджалеет?.. Ты на ночь добра не лови – на жизнь ищи! Чтоб была моей фасонности… Всё вам не проходить деньги[10 - Проходить деньги – истратить деньги.] на одёжку ей… Я б отдарила ей всё своё, вплоть до нашиванки[11 - Нашиванка – праздничный цветастый платок.]… Ежли не возбрезгует… Да и… Увидишь ты её в моём и подумаешь – я это… И тебе было б легче, и мне, может, там будет легче, что ты не забываешь меня… Ну!.. Намечталась… Через неделю чтоб как штык стояла туточки твоя чепурилка… Покажешь… Игнатик мой вялую руку к виску, как-то подбито поклонился. Слушаюсь! И через неделю потомяча мой леший красноплеший притаранил-таки! Навпримерно моих так лет. С ловкой фигуркой… Лицо смешливое, простецкое, в золотых конопушках. Свеженька, опрятненька так… Думаю, чисто себя водит. С одуванчиком[12 - Одуванчик – марлевая косынка.] на голове. В нарядной коротенькой татьянке[13 - Татьянка – юбка в мелкую оборку.]… Ну, лежу я… Ни суха ни мокра… Мне ни хорошо ни плохо. Как-то навроде и без разницы… Всё гадаю, ну а будет она моим горюшатам мать але ведьма? Вроде б так к матери ближе… Не какая там бардашная девка… Не распустёха… Мне девчошечка поглянулась… Красивая… Ну, красоту не лизать. Жили б в одно сердце… Ну, стала она захаживать. То постирает что, то сготовит да меня ж и подкормит… Мы дажеть немноженьку сошлись… Какой-то особенной любови я промежду ними не вижу. Да оно и к лучшему. Надо порядок додержать. Уж как сойду, наполно развяжу им руки. Я покойна… Муж, робятки не будут у такой сиротами. Наказываю ей: «Ты за самим зорче карауль. А то он рюмашке мастак кланяться. Не давай ему воли выше глаз. Сгорит же с вина!..» Ухватила кавалерка моего пантюху крепонько, ни разу не был при ней и под малым градусом. Мой даже взглядывает на неё слегка полохливо. А ничё… Мужик в строгости не испортится… Я сделала, что могла… Семья без меня не падёт. Это главное… На душе тихий рай. Покойность… Можно и в отход… чем так мучиться…
Катя вдруг сморщилась, закрыла лицо руками и заплакала навскрик.
– Доктор! Миленька!.. Брешу, брешу всё я! Каки ни египетски боли, а помирать больней! Тупая… спесивая… распроклятка наука! Чем помирать по этой науке, лучше жить без науки! Таис Викторна, миленька, – изнурённо зашептала Катя, – поджалейте мою молодость. Помогите!.. Морфий добьёт… Как Нинушку!.. Я слыхала… Слухи бегают… сурьма помогает…
– Не знаю, Катюша, помощница ль тебе сурьма, – на раздумах проронила Таисия Викторовна. Вспомнила о своём борце, опасливо добавила:
– Вот травки…
– Травок-то полны леса. Да тольке наросла ль травка от погибели?
– Нарос… ла… – заикаясь, ответила Таисия Викторовна. Ладони у неё запотели, невесть отчего перехватило дыхание. Ей стало вдруг страшно, страшно оттого, что делает она что-то такое, чего не следовало бы вовсе и делать. – На траве сидеть, траву пить… – машинально проговорились сами собою эти слова. – Вот… – нервно достала из сумочки кроху-флакончик. – Это настойка. Должна бы помочь…
Было такое чувство, будто этот флаконишко жёг ей пальцы, и она суетливо поставила его на тумбочку у Катиного изголовья.
– Я ведь, К-катюша… В голове гудит, как на вокзале… Уж сколько дней хожу по больным по своим с этим борцом… А предложить боюсь… Ядовитый корешок…
Катя посмелела глазами.
– Да не ядовитей морфия! А отравиться и морковкой можно. Вон врач прописал одной моей знакомке морковный сок. Уж чего проще! Знакомка и рада стараться. Навалилась хлестать почёмушки зря. За раз выдудолила четверть и откинула варежки.
– Осторожничай… Не дай бог из детворы кто хватит.
– Таисия Викторовна! Миленькая! Не беспокойтесь, лиха сна не знайте. От детворы уж уберегу. А самой чего лишко хлебать? Каку дозу проскажете, та и моя.
– Доза нехитрая. В первую неделю по две капли три раза в день за пятнадцать-двадцать минут до еды. Пипеткой накапай в стопочку с сырой водой и пей. Во вторую неделю прибавляешь на одну каплюшку, в третью ещё на одну и так поднимаешь до десяти. Потом в каждую неделю сбрасываешь по капле, срезаешь норму до исходной – две капли. Ты у нас гинекологичка. Тебе надо и спринцеваться… Десять капель на пол-литра воды… Ты молодая, крепковатая, не очень запущенная… Я с тобой, шевелилочка, в полгода разделаюсь, как повар с картошкой.
– Уврачуете?.. Поднимите? – робко уточнила Катя.
Таисия Викторовна всплеснула руками.
– О! Да ты вся выпугалась в смерть. Думаешь, а чего это я тебе навяливаю? Не трусь. Это настойка борца. Две настаивала недели… Пять грамм корня на сто двадцать пять грамм семидесятиградусного спирта. Не бойся, свою настоюшку я уже проверила дома на коте на своём, на собаке Буяне, а вперёд на самой себе. Не баран чихал! Пила по граммульке сперва. Безвкусная. – Таисия Викторовна глянула на флакон на тумбочке. – Никакого яда не слышно. Цветом золотится. Вишь, похожа на коньяк. Коту подпускала в молоко, в суп. На пятой капле забастовал мой Мурчик, не стал лизать молоко. На пятой капле я и сама уловила лёгкий яд… Как-то угнетает, вдавливает в тоску… Но видишь, цела, не рассыпалась вдребезь…
А ночью Таисии Викторовне приснился сон.
Увидела она себя совсем маленькой. Гимназисточкой-первоклашкой.
Весна сдёрнула с земли снега; надёжно живило душу тепло.
Таюшка в белом платьице, на головке венок из ромашек. Вприскок бежит счастливая по лугу ромашковому, несёт перед собой мотылька на раскрытой розовой ладонке, в радости щебечет:
– Расскажи, мотылёк,
Как живёшь ты, дружок,
Как тебе не устать
День-деньской всё летать.
И в тон ей звончато отвечает с ладошки мотылёк:
– Я живу средь лугов
В блеске летнего дня.
Аромат из цветов —
Вот вся пища моя.
Но короток мой день,
Он не более дня.
Будь же добр, человек,
И не трогай меня.
4
Отслоилось несколько месяцев.
Таисия Викторовна привернула к Маше-татарочке. Всегда мягкая, всегда стеснительная Маша ожгла её холодным, обиженным взглядом.
– Когда раздавали мудрость, в мой мешок ничаво не попал! – чуже посыпала Маша словами. – Пускай я балда осиновая, глупи, но я напрямки искажу… Я, докторица, на тебе пообиделась. Ай как сильно пообиделась, один Аллах знай!
– Маша! Милуша! Да за что? – Таисия Викторовна бочком подлепилась на кровати к больной. – Давай сядем криво да поговорим прямо.
– У тебе одна больной – эта! – вскинула Маша большой палец. – Другая больной – эта! – выставила мизинец. – Я эта больной! – Она пошатала мизинец.
– Маша! Не неси греха на душу. У меня все больнуши равны.
– Не все, не все… Ты зенкалки болшой не делай… Я совсема здыхот[14 - Здыхот – больной.]… Кабы был мне сил, я б отворотился от тебе… К стенке поворотился ба… Одна стенка чесни… Я всю недель рыдал, как буйвол… Мне не был так чижало, когда работал землеройкой[15 - Землеройка – работница овощной базы.], когда таскал потомяча на стройке кирпич на тачка… Машина такая ОСО, две ручки и колесо…
Таисия Викторовна растерянно заозиралась. «Где же это я напрокудила? Чего ещё накуролесила? Вроде вина за мной никакая не бегает… Неужели кто на хвосте сплетни нанёс?»
Замешательство врача вытягивает из больной огонь злости, и Маша ворчит уже тише, смятенно жалуясь:
– Равны… Кабы был равны, так ба я тожа пел. Игнатиха – вота где раздуй кадило![16 - Раздуй кадило – об озорном человеке.] – по телефон, как нарочи[17 - Нарочи – нарочно.], уже мал мала хулиганисто песняга поёт:
Кабы знала-перезнала,
Где мне замужем бывать,
Пособила бы свекровушке
Капусту поливать.
Я, простячка, такой песняга не пою. Мой песня коротки… Мой песня одна: ох-ох-ох. Припевка тожа одна: ой-ой-ой… Бессовесни Игнатиха выхваляется: боль уж малешко. – Маша чуть развела указательный и большой пальцы. – Кушает, как слон. Спит, как медведе в берлоге зимой. Как мы равны? Я не сплю… Ночку кричу, деньский день кричу без перерыв на завтрик, на обед, на вечерю. Совсемушка ничаво кушать не хочу… Высох… Паличка… Вес сорок один кило. Хорошая барашка болша тянет… Сила из мне утекла… Совсемко моя жизнуха размахрявилась… К больному даже муха пристаёт… Я такой здыхот, такой здыхот… Шла на Плеханова… Нет… Это трамвай шла на Плеханова. А я стояла. Трамвай шла мимо и сдула меня. Ветром от трамвая сдуло! О, как вы, врачея, лечите… Прошу своих: не троньте, не шевелите мне… Мне к земле тянет… К земле… Говорят, жизнь – колесо: то поднимется, то придавит. А мне всю времю давит, давит… давит… Моя мужа на война голова положил… Как хорошо, что до войны я обдетилась. Четыре детишка у мне… Разве я могу помирать? Не могу. Нельзя… Запрещается… Давай нараз, золотая докторица, твои золоты капельки! Почё не даёшь?.. Я тожа хочу кушать, как слон, спать, как медведе, петь, как бессовесни Игнатиха… Когда подковывают коня, лягушка тожа протягивает лапку…
– И умно делает! – воскликнула Таисия Викторовна, довольная желанным поворотом встречи. – Катящийся камень, Машенька, отшлифуется, лежачий – покроется мхом… Дам я тебе свои капельки. Только ты уж не копи на меня зла… Я почему раньше не давала тебе? Корпело сперва твёрдо разведать, как работают мои капельки. Горелось закончить полный курс хоть на одной больной…