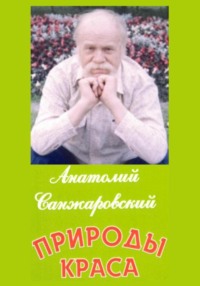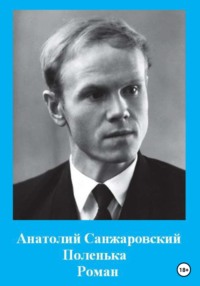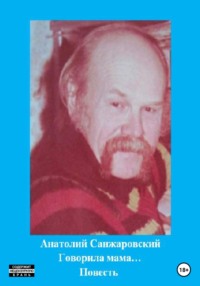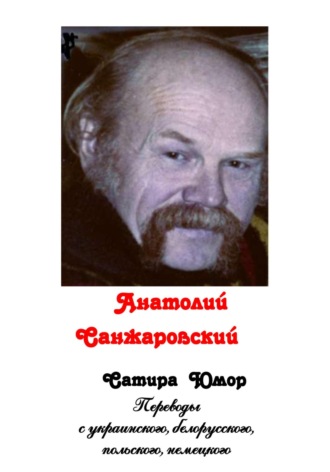
Сатира. Юмор (сборник)
Дорогие юбиляры красноармейцы! Объясните же мне, кто теперь все это делает у вас?
А если правда, что у вас нет сейчас фельдфебеля, то неужели вы живете без гигиены?
Неужели?
1928Дачные мученики
Дача в наши дни вещь необходимая, как, скажем, страхкасса или очередь на трамвай. Потому – воздух. А без воздуха, сами, товарищи, знаете, долго не проживешь. В городе духота, пыль, асфальтовая мостовая иногда попадается, нагревается все невозможно и – для здоровья минус. Опять же плюются…
– Да я не про то, я относительно здоровья. Недавно в журнале читал. Ну, написано ж все досконально. Примером, плюнул гражданин. Кажется, что тут дивного, а наука – она, брат, до всего доходит. Где, к примеру, ничего не поймешь, она тебе, братец ты мой, пунктиром покажет, какой от плеванья вред и социальная опасность. Потому бактерия из плевка в воздух, из воздуха в выпивку или в закуску попадает. Ну а с выпивкой тут уж у бактерии одна дорога – в желудок. И, конечно, результат. Гражданин, может, на свои честные выпил, а потом приходится районного врача неделю ждать или в карете скорой помощи помирать.
– Оно ведь так. В городе, что и говорить, для здоровья атмосфера неподходящая. Азота в воздухе нет. Ну и валит народ на дачу. Хоть раз в неделю воздуха набраться, азотом побаловаться. Только народу того очень много стало. Пришли, как будто и немного было, а сейчас набралась бессметная сила.
– Кондуктор! Почему поезд не отправляют? Сами, наверно, каждый день по дачным местам ездите, а тут раз в неделю выберешься и то задерживают.
– Не от нас это зависит! Поезда по расписанию отправляют.
– Так опаздывает же! Уже на десять минут опоздал.
– Все одно, хоть и опаздывает, а без расписания отправить поезд нельзя, такой порядок.
– Господи! Духота какая. Нет того, чтоб вагонов больше дать. Все ж легче.
– Граждане! Куда, к слову, этот поезд собрался ехать?
– А вам куда надо?
– На д-д-дачу… Кум десятью минутами раньше поехал, ну а я, значит, растерялся… с кумом. И теперь моя задача догнать кума…
– Поезд на Мерефу.
– И прекрасно. На Мерефу так на Мерефу. Мне абы кума догнать…
– Куда ж вы лезете, гражданка? Видите, живого места нет. Нельзя же лезть без церемоний прямо на людей. Понимать же нада.
– Сам пораньше влез, так уже других не пускает. Что ж мне, по-твоему, левую ногу на перроне оставить? Я уже вся влезла, только левую ногу никак не пристрою. Бюрокрад какой.
– Что ж вы ругаетесь, гражданка?.. Твое счастье, придавили меня, а то б я тебе показал, какой бюрокрад. А еще вроде дама. Особа из прекрасного пола. Сказал бы я тебе, какая ты особа, да трех рублей жалко.
– Граждане, прекратите дискуссию, все одно проголосовать не удастся. Так прижали – руки поднять невозможно.
– Товарищ, нада ж понимать сознательность. Вы ж корзину на ребенка поставили, ребенок тоже «предмет удешевленный».
– Извините, не видно мне сзади.
– С-с-сз-зади! Смотреть надо глазами, а не штанами.
– Действительно… Штаны белые натянул, так уже и думает, что людей можно давить. Из малого, может, путное что выйдет – смена какая или «наше будущее», а его прежде времени норовят раздавить. А еще «Друга детей» на груди носит.
– Граждане! Пропустите дамочку на площадку, с ними нехарашо. Глубокий обморок, даже краска на губах побледнела.
– Раз краска побледнела, значит, обморок. Потому, если дамочка хоть капельку при себе, до этого не допустит.
– Манечка! Все вещи забрали? Проверь!
– Все. Только вот бабушки не видно… Мама! Мы, кажется, бабушку потеряли.
– Товарищи! Гражданин тещу потерял! Вот радость!
– Какая там радость?
– Известно какая – семейная…
– Мама! Бабушка нашлась…
– Нашлась? Как?
– Ну да! На ней гражданин сидел. В Покотиловке сошел. Спит сейчас бабушка, улыбается.
– Товарищи! А теща у гражданина нашлась. Радовался он, выходит, преждевременно.
– Степа! Кажется, Мерефа! Слезай! Назад, гляди же, вместе!
Воздух, вода, солнце
Граждане!
Неужели до сих пор вы так и не сняли дачу? Ай-я-яй!
Что ж вы спите? Чего ж вы зеваете да спину чешете?
Уже ж апрель. Не за горой и май. Разве ж вас не тревожит наша физкультурная эпоха? Разве вас не касается лозунг «Воздух, вода, солнце!»?
Неужели вы не хотите в полчетвертого послать к чертовой маме город с его громадными домами, трамваями, мостовыми, грязью, духотою и, вконец вымотавшись, – 20 минут в очереди на трамвай, 10 минут в трамвае, 20 минут у железнодорожной кассы и икс минут в поезде, – драпануть куда-нибудь в Зеленый Гай, или в Люботин, или в Высокий, или в Карачевку?
Туда, на воздух, на солнце, на воду!
А там, в Люботине или Карачевке, отведав зеленого борща и телячьей колбасы, которую вы предусмотрительно купили в душном Харькове, вклиниться в очередь к пруду или к Уде, чтобы искупаться, потому как без купания вы не выполните лозунг «Все на воздух, на солнце и в воду!!!»
Граждане! Да неужели вы до сей поры не нашли себе дачу!?
Не поверю, ей-бо, не поверю.
Я не допускаю мысли, чтоб вы не променяли невозможный харьковский воздух на здоровый, легкий, пользовитый и приятный воздух той же Покатиловки, где того воздуха сколько угодно и без очереди, где тот воздух настырно лезет в вашу комнату и через двери, и через потолочные щели, и в побитые футболистами окна лезет вместе с лучами солнца, с пеньем пташек и «матом» туземцев и пришельцев!
Простите меня – не поверю!
А солнце? Солнце! Граждане! Что делает с нами солнце! Этот маг, этот волшебник!
Ах!! Лицо ваше набирает субтропического цвету, вы чувствуете, как постепенно, раз за разом после солнечных ванн, ваши мускулы каменеют, становятся стальными, как на вашей спине, шее, животе и «протчих» местах облазит кусками кожа, и вы вынуждены мазать себя вазелином или смальцем, иначе заснете лишь на рассвете, опоздаете на поезд, не успеете вовремя в должность, будете оштрафованы, предупреждены и т. д., и т. п.
Товарищи! Ужель вас не манит роскошный тихий, теплый майский вечер, когда вы под ручку с соседской Светланой Титовной гуляете у вонючего пруда и весь дрожите от счастья, и оттого, чтоб вас не накрыла ваша половина Клара Сидоровна, и оттого, что вас немилосердно кусают лютые люботинские или песочинские комары Anopheles naemozlivica.
А ночь! Ночь! Если бы я был Н. В. Гоголем, я б обязательно сказал: «Божественная ночь!! Очаровательная ночь!!!»
Тихо…Ти-и-ихо… Нежной прохладой дышит уснувший пруд, месяц из-за деревьев подсматривает, как вы прощаетесь со Светланой Титовной, и вам кажется, что месяц завидует… Попрощавшись, вы идете домой, танцуя, будто вам двадцать, и в мыслях у вас: «Завтра она будет моей!..»
В комнате у вас темно… Вы зажигаете свечку… Ваша Кларочка спит, натянув на голову две подушки от комаров… Вам хочется есть… Вы крадучись лезете к шкафу… Пустой… Вы к кошелке – пустая… Удивленно начинаете осматриваться…
Какой диалог завяжется между вами и Кларочкой – я не знаю. Это зависит от вашей сдержанности и ценности украденных вещей…
Ах, ночь!.. Ах, дача!!
………………………………………………………
Граждане! Да неужели вы так-таки и не нашли еще себе дачу? Уже ж апрель. На носу май… Поторапливайтесь. В воскресенье немедля на поезд и ищите. И делайте это как можно быстрей, а то я три воскресенья подряд ездил искал дачу на всех околицах Харькова в радиусе шестидесяти верст и… не нашел. Все заняты.
Так чтоб и с вами не приключилась такая история.
Поторапливайтесь!
Стихия
На работе мне не дают проходу. Только и разговоров, как это я, советский человек, и никогда не был на море.
Все были. И Розалия Абрамовна (негр.) и Петро Панасович (двенадцатый разряд плюс 25 % нагрузки), и Костя Гронек (альфонс), и Ада Гад (главный клиент ТЭЖЭ[14]) и много таких же работников и честных служащих – все были на море, купались, пеклись на солнце, дышали морским воздухом, наживали килограммы, а я нет.
Наконец, мне стало стыдно, я не выдержал и поехал на море.
Поразило меня море сильно.
Да оно и не диво.
Все ж таки – стихия.
А со стихиями мне во время революции (и при царском гнете) встречаться не доводилось, как-то выкручивался.
И вот, встретивши первый раз в жизни стихию, хотя и мокрую, без впечатлений невозможно.
Что ж на море впечатляет?
Все!!
Ах!
Море!!
Это, значит, такая большая речка, у которой лишь один берег.
Безусловно. Другого берега я и не видел, как ни присматривался.
Берег моря, или по морской терминологии, пляж – штука очень сложная.
Состоит она из голых людей, нехорошо пропеченных кирпичей, битого стекла, объедков, кусков газетной бумаги, морских ракушек и грязного песка.
Вода в море обычная.
Единственное, чем она отличается от воды наших речек, – это то, что какой-то урод взял и пересолил.
Когда и при каких обстоятельствах была пересолена вода, узнать мне не посчастливилось.
Расспрашивал я многих про это, заходил даже в местную милицию – никто не знает.
А вода пересолена и очень.
Пробовал пить в четырех фарватерах (морской термин; по-нашему – в четырех местах) – везде соленая.
Какой-то доброжелательный гражданин, что сидел голый на пляже и пил воду из бутылки, насоветовал мне попробовать еще и из пятого фарватера, но я, с сожалению, не мог дальше проводить свои исследовательские экскурсии, меня сильно потянуло на берег, где я и пришвартовался (морской термин; по-нашему… это тоже очень плохо, не говоря уже о трех рублях штрафа).
Из прочих свойств моря, кроме, значит, сложного берега и соленой воды, следует отметить работу моря.
Работа у моря чрезвычайно простая: это делать прибой и отбой (морские термины; по-нашему – плеваться).
Прибой – это когда море тихонько плюнет волной на берег, а отбой – когда берег той волной плюнет назад.
Вот и все.
Как видите, работа никчемная, однообразная, грязная и к тому ж еще явно контрреволюционная.
На пляже на столбе висит постановление местной Советской власти:
«Плевать на пляже запрещено».
А море плюется себе и плюется.
Сказать, что местная власть про это не знает?
Ничего подобного. Раз рядом со мной начальник милиции купался. Понимаете, начальник милиции!
Все равно – и на него плюет.
Что-то непонятное. Особенно когда случайно припомнишь, что это деется на двенадцатом году революции.
Может, кто скажет, что это ж море, это ж стихия.
Не соглашусь.
А начальник милиции что по-вашему?
Это если всякая стихия начнет выкамаривать, что ж получится? Сегодня море на начальника милиции плюет, завтра ветер пораскидает бумаги у секретаря райисполкома, послезавтра гром ударить в ВУЦВК…
По-моему, так. Хоть ты и стихия, а знай свое место… в природе.
А вообще море, если отбросить эту его, очевидно, случайную неосведомленность, очень мне понравилось.
Оригинального на море и у моря много, неожиданностей – сила.
Такое, например.
Сидит на берегу человек и стирает подштанники.
Обычный вроде человек и поза обычная.
А выходит, что не человек это, а «морской волк».
И волчьего, кажется, ничегошенечки, и усы такие же, как, скажем, у вольного гражданина Полтавщины, и ругается одинаково, и подштанники довольно грязные и рваные, – а «волк».
Конечно, не все «волки» безработные.
Многие из них действительно по специальности работают возле родной стихии: продают на пляже яйца и булки, сдают напрокат лодки, фотографируют пляжников, а «волчата» целехонький день выкрикивают на пляже:
– Кому свежей холодной воды?
Однако «волки» – народ симпатичный. Вот только немного нелюдимый.
Например, надо было мне окончательно выяснить, что такое «морские узлы». Подхожу я к одному гражданину, что возился у одномачтовой шхуны (морской термин; по-нашему – лодка, которая может одновременно поднять и потопить не больше пятнадцати человек).
– Скажите, говорю, пожалуйста, капитан, как теперь дело с «морскими узлами»?
– Ничего. Какой ветер и куда надо идти?
– Идти, говорю, мне сейчас некуда, только что пришел, а интересно, говорю, мне знать, под какой ветер лучше завязывать: под норд-ост или под вест-зунд (морские термины; по-нашему – тихий ветер и лютый ветер) и вообще, говорю, товарищ морской волк, проинформируйте меня в этом деле основательно, потому как я собираюсь приобрести для заграницы целый трюм узлов разной якорности. Если же сейчас у вас нет времени со мною бухтеть, то, пожалуйста, немного погодя рейдируйте к местной гостинице, каюта № 13, я там уже третий день отдаю концы…
На это гражданин ничего не ответил, а, покинув шхуну и все причиндалы, дал полный ход (морской термин; по-нашему – убежал).
К кому я потом ни обращался по случаю узлов (а обращался я ко многим), все безразлично пожимали плечами и быстро отходили.
Только один раз какой-то гражданин долго пытался доказать мне, что «узел» – это морская мера длины, но в тот момент кто-то заметил:
– Оставь! Малахольный! (Морской термин; по-нашему – ненормальный).
Гражданин отошел.
Дивно. Ненормальный человек, а так вежливо ведет себя… Очевидно, и тут не без влияния моря.
Ах! Море!!
Стихия ж! Граждане!
Контрреволюция
Небарись шел, понурившись.
В его левой руке болтался рыжий потертый портфель, а правою рукою Небарись крутил перед собой, причем указательный палец выводил в воздухе какие-то таинственные знаки.
– Что означают эти твои манипуляции, Виктор? – спросил я, поздоровавшись. – И нельзя ли потише махать, а то ты мне чуть нос не отхватил.
– Извини, – ответил Небарись. – Я весь озадаченный…
– Чем? Очередная неприятность с квартирною хозяйкою? Или, может, ты еще нетвердо решил, каких карпов ты будешь истреблять этим летом, донских или ворсклянских?
– Нет. Дело серьезное. Очень серьезное. Я… – Небарись сделал паузу. – Я… контрреволюционер…
– Как? Что? – закричал я так, что милиционер, стоявший на углу, сразу засвистел и, подбежав к нам, сказал:
– Граждане! Драться вы можете лишь тогда, когда при вас есть шесть рублей. Иначе я не позволю…
Но я уже не слушал милиционера, а, схватив Небарися за рукав, потянул его за собой.
В театральном сквере мы сели на скамейку. Я говорю:
– Слушай, Виктор! Скажи мне откровенно. Ты здоров?
– Целиком.
– Виктор… Я тебя знаю… Ты хороший парень и десять лет тому назад ты не был контрреволюционером. Как же теперь, когда мы убедились вообще… достигли… Виктор…
– К сожалению, я – контрреволюционер. И настоящий. Я убедился. Когда человек на двенадцатом году революции идет против власти, такого человека считают контрреволюционером. Понял?
– Понял. Но… Может, еще не поздно все это исправить? Может, тебе не хватает какой справки или «поручительства»? Так ты не беспокойся, Виктор. У меня много знакомых, Виктор…
– Не поможет, – махнул рукою Небарись.
– Да в чем дело? He тяни. Не мучь…
– Дело в… лете…
– Ой, Небарись!.. Или ты мне тут же выложишь свои контрреволюционные штучки, или три рубля пополнят доходы нашей милиции…
– Именно в лете, – продолжал Небарись. – Лето сейчас. Значит, мне, честному советскому гражданину, надо выполнить все очередные директивы власти нашей законной, а я не могу. Пойми ты – не могу! Как известно, на это лето намечено восемь кампаний: отпускная, экскурсионная, курортная, физкультурная, строительная, туризм, спорт и самокритика. Охвачу я все это? Нет. Значит, я контрреволюционер, раз я…
– Знаешь что, Виктор, – перебил я Небарися. – Дело твое швах! Ты пропал! Тебя расстреляют.
Безусловно. Таких людей, которые не умеют строить новую жизнь, надо уничтожать, как саранчу…
– Видишь. Ты тоже так думаешь, – тихо заплакал Небарись. – Возьму я, например, отпуск, как же я тогда самокритиковаться буду или как я тогда в строительной кампании…
– Правильно, Небарись! Тебя надо расстрелять. Человеку, который не может охватить даже восемь кампаний, надо не к социализму идти, а к стенке. Таким, как ты, не место среди нас, храбрых, передовых!
– А как же вы, передовые? – в слезах спросил Небарись.
– Мы?! Ого-го! Слушай, сморкач! Слушай, слюнявый интеллигент! Слушай, ничтожество! Сколько кампаний? Восемь? Получай:
Беру я отпуск (отпускная) и, натянув трусы, пешком иду до Хотомли! Это сорок пять верст. Солнце, свежий воздух, ходьба, дорогою гоняю футбол. Вообще вот и физкультура.
Во время путешествия я изучаю родную страну, ее флору и фауну (туризм).
На берегу Донца я строю шалаш (строительная). Купаюсь и ловлю рыбу (спорт и снова ж таки физкультура).
Каждую ночь я отправляюсь на экскурсии по огородам – за картошкой, по садам – за яблоками и на бахчи – за арбузами (экскурсионная).
Если меня поймают, я это событие буду жестоко самокритиковать, чтоб не пойматься во второй раз (самокритика). Понятно?
– Понятно. А все ж таки ты не все охватил. А курорт где?
– О-о-о! Мокрица! О аппендикс социализма! О несчастный! Слушай же ты, упадочник, как бодрые, живучие элементы охватывают летние кампании на все сто процентов. Слушай и учись. На моем шалаше будет висеть прекрасный плакат «Курорт имени Василя Чечвянского. Сезон 1929 года».
Цари природы
В субботу вечером, когда каждый честный трудящийся имеет по кодексу труда 42-часовой беспрерывный отдых, в одной из 70 харьковских пивных на площади Возрождения сидели двое граждан породы «совработных» и пили пиво. Это были помглавбух треста «Центропудра» Корней Делегаденко и делопроизводитель Аркадий Рукипрочьский.
Какие темные силы толкнули их на почти исключительное среди граждан страны занятие, автор, к сожалению, объяснить не может, но за факт тот полностью ручается.
Делегаденко и Рукипрочьский пили пиво и болтали. О «прогрессе». Обстановка благоприятствовала больше всего именно этой теме. Оркестр играл «Баядерку». Буфетчик на листке бумаги, лежавшем на конторке против стола № 41, написал цифру 10, которая полностью соответствовала десяти пустым бутылкам под столом приятелей.
– Возьмем, например, автопробег, – говорил Рукипрочьский, поднимая с пола сосиску, – возьмем, я говорю, автоперегоны. Я тебя, Корнюша, спрашиваю кон…токорентно: мог ли при царском гнете рабочий или служащий на автомобилях гоняться? Мог, я тебя спрашиваю, участие в рекордах принимать?.. А коли и мог, то разве только тем, что чинил дорогу для буржуев, которые ездили. А теперь – пожалуйста: хочешь – пиво пей, хочешь – рекорды ставь! А масштабчик перегонов, Корнюша! Ленинград – Тифлис или, как говорили до революции, от Кавказа до Алтая, от Амура до Днепра! Вот что значит прогресс!
Ты, Корней, физики не криви. Я тебя, пессимистика, знаю. Ты, конечно, начнешь мне заграницей тыкать. За кордоном, мол, то, за кордоном се. Брось, брат, критику. Я могу разбить ее так, как этот стакан. Ухлопаю и за границу не поеду. Хочешь? Пожалуйста.
Конка ходила, я тебя спрашиваю? А теперь автобусы, трамваи, автомобили не дают по улице пройти. На крышах, я тебя спрашиваю, кто кроме котов устраивал для тебя концерты? А теперь пожалуйста. Громкоговоритель. Раз, два и: «О дайте, дайте мне свободу, не то сбегу, побей меня Господь». Из «Князя Игоря». Аэропланы, пионеры, остановки, плевательницы, такси… Про «Новую Баварию» даже говорить нечего. Плюнул – штраф, к трамваю не с того конца полез – штраф. Мало?
Приятно, черт подери, Корнюша, сознавать, что ты, например, человек. Толкач того самого прогресса, а не какая-нибудь пресмыкающаяся гадюка или тому подобный карась… А? Ты только посмотри, что человек вокруг себя наделал. Радио, техника, физика, химика! И все кто?
Чел-ло-о-о-оек! Венец миро-издания. Царь природы! А ты с критикой…
Выпьем, Корнюша, потому не могу я спокойно про такие вещи говорить. Радость на меня буйная надвигается. Так и хочется крикнуть: эх вы, которые самые…
Ну что ты скажешь, Корней? Неправильно я говорю?
– Ты говоришь правильно, Аркадий, и я с тобой совершенно не согласен, – ответил Делегаденко, обсасывая со свистом хвостик воблы. – Ну какой, например, я царь природы, коли эта ахворизма абсолютно ни к чему? Пустой звук. Мираж-фиксаж и больше ничего. Ну, какой я царь, допустим, природы, коли меня никто не боится, а я всех и всего боюсь?
Дома я боюсь своей царицы Одарки Микитовны, по дороге на службу боюсь опоздать на три секунды, на службе боюсь зава, месткома, секретаря, главбуха, потому как я всего лишь помглавбух. Словом, боюсь, так сказать, по всем правильно взятым линиям: производственной, профсоюзной, нотной[15], служебной и семейной. Какой из меня царь, коли царство мое ограничено шестнадцатью аршинами жилплощади и в этой зажатой монархии царствую, собственно, не я, а жакт?[16] Радио, конечно, харашо, а вот спробуй ты под момент не знать, в каком году была Октябрьская революция, и за такую мелочь ты уже безработный и на твоем месте уже сидит какой-нибудь сопливый хронологист. Режим заедает, Аркаша! «Игра сделана, ставок больше нет!» – вещь, безусловно, нужная, но зачем же делать из меня добровольца авияхема, коли я того, допустим, не хочу? А выпить за прогресс – почему не выпить. Сколько угодно могу выпить и сочувствовать, но позволь мне на чай официанту дать, коли я того, например, желаю.
Приятели выпили, расплатились и, пошатываясь, вышли.
Убирая посуду, официант сунул в карман 20 копеек, которые лежали на столе, под пепельницей. Официант посмотрел вслед приятелям и с укором проговорил:
– Тоже критиканы… А на чай давать можно? Оскорблять человека можно? Слюнявая антиллигенция!
1929Популярность
Молодой поэт Павлуша Малопийченко ехал к своей невесте, которая жила в Мерефе на даче.
Публики в вагоне не густо. Человек тридцать, больше торговки, возвращающиеся из Харькова с пустыми кошелками. Ехали еще три железнодорожника, седой старичок и две гражданочки.
Гражданочки принадлежали к категории так называемых «пухленьких» блондиночек с ямочками на щеках и «капризными носиками», к категории, сильно распространенной v нас на Украине благодаря климату, ТЭЖЭ и завоеваниям революции, что раскрепостила женщину, вырвала ее из когтей кухни и т. д., и т. п.
Настроение у Павлуши прекрасное. Этому способствовало все: и перспектива свидания с суженой (Павлуша был очень влюблен), и чудесная погода, и, главное, то, что в Павлушином кармане лежал только что из типографии сборник его стихов с посвящением: «Несравненной Елене – звезде моей огненной».
Если добавить, что это был первый Павлушин сборник, ничего не будет странного в том, что Павлуша все время нетерпеливо смотрел на часы, много курил и поминутно перебегал от окна к окну.
Поезд остановился на какой-то дачной остановке. Одна из блондинок, до этого внимательно следившая за Павлушей и его нервным поведением, начала что-то тихо нашептывать своей соседке. Нетрудно догадаться, что причиной шепота был Павлуша: вторая блондинка тоже, будто ненароком, посмотрела па Павлушу и кивнула головой.
Заметив это, Павлуша подумал:
«Приятно! Меня уже замечают. Значит, где-то видели мой портрет, читали мои стихи. Приятно, черт побери! Когда буду сдавать в печать второй сборник, надо коротенькую автобиографию тиснуть с портретиком. Для популяризации невредно. О, как на меня уставились!
Блондинки в самом деле «стреляли» все время в Павлушу, пока поезд не остановился в Карачевке, где они, еще раз поглядев на Павлушу, торопливо покинули вагон. Вместе с ними вышли железнодорожники и несколько торговок.
Павлуша подсел к старичку и закурил «эсперо».
– Ишь ты, какие специалистки, – проговорил старичок, ни к кому не обращаясь. – Хотели без билетов проехать.
– Кто? – спросил Павлуша. – Торговки?
– Какие там торговки? Две крашеные дамочки, напротив меня сидели. Думали, ты контролер и – ходу! А им аж до Мерефы надо. Напугали вы их… Одна все шептала: «Говорю ж тебе – контролер. Вот увидишь, когда высадит. Лучше сойдем в Карачевке». Вот и вышли! История… А какой вы контролер… Контролера я знаю. Он такой… солидный…
Павлуша встал и в сердцах плюнул в окно.
Христос воскрес
(Монологи)
Хрис-с-с-с вос-с-с-с! Дядюшка! Дорогой! Обратите внимание! Пасочка – продукт коллективного творчества. Всем семейством совершенствовали. Просю! Поросятинка с индивидуальным уклоном – сам покупал, сам жарил. На свой вкус. Водка – государственного производства. Пустяковину добавил лишь для цвета. На зубровке настояна. Кто за, чтоб еще по одной? Воз-дершавшихся нет? Иван Иванович! С дядею! Дядюшка, с праздничком! Что? Душа горит? Холодца душе горящей! А для усиления реакции – этой холодненькой чарочку. Кто за? Единогласно! Люблю организованность. «Елици во Христа-а-а креститися-а-а…» Дядюшка! Не лезет? Вопрос? Протолкнуть колбаскою. Надавить, так сказать, по низходящей линии… Держись, дядя! Иван Иванович, помогите ввести во внутренние апартаменты нашего высокочтимого дяди вот этот витамин с чесноком. Да здравствует! У меня лозунг «Все для гостей!» «Воскресе-е-ения день, просветитеся, людие-е-е!» Степан Степанович, просвещайтесь! А дядя снова в оппозицию? Ах, «не мммогу!» Ах, дядя не м-м-может?