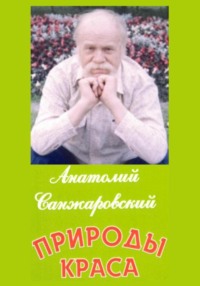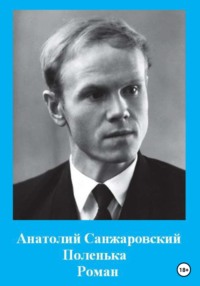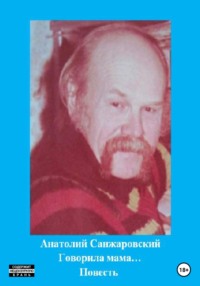Собрание сочинений в 15 томах. Том первый
Из-за труб вывернулся "бобик".
Не сминая скорости, стремительно катится к межине поля.
– Про него речь, – мрачнеет Иван, – а он навстречь…Мда-а, едрёна корень. Вот сейчас ткнёт пальчиком и хошь не хошь, а режь на корм эвона какой коридорище кукурузы. Готовь этим доблестным газовичкам фронток работ!
– Э-эй!.. Э-эй!.. Да куда-а!? – в отчаянье замахала руками Маричка, видя, как колёса, миновав межину, вдавились в мягкое тело её земли.
Ударив передком и наклонив от себя крайние кукурузины, машина стала. Откачнулась назад.
Тяжело охнув, хлопнула дверца.
К Маричке с Иваном нехотя, как-то лениво, с чужой тягостной улыбкой на широком лице двинулся громоздкий, медвежеватый чернявый парубок.
– Это и есть ваше начальство? – с ядком хохотнула Маричка.
Иван зашептал:
– Срочно приказываю. Меняй гнев на милость! Начальство оченно не любит непочтительности.
И, смеясь глазами, с деланным подчёркнутым прилежанием потянул руки по швам, выпячивая простор груди.
– Отставить, – без аппетита качнул рукой дюжий парубок и без желания, словно по принуждению, поручкался с Иваном. Они были уже знакомы.
– А вот наш Бог по кукурузе, – кивнул Иван на Маричку.
Парубок понёс к Маричке массивную руку:
– Богдан Клавдиевич Гойдаша.
– Мария.
– А дальше?
– Что дальше?
– По отчеству?
– Не обязательно! – зардевшись, смято бросила.
– Ну а всё-таки?
Открытая отчуждённость не во нрав легла гостю.
Гость явно уязвлён. Оттого, может, и опрометчиво настойчив.
Разворотистый Верейский, как свою руку знающий кремнёвый Маричкин характер, канючит с улыбкой:
– Свет Ивановна! Да сознайся уж, как там тебя по батьке, раз ему так кортится.
Все рассмеялись.
– Ну что, – говорит Богдан, – прогуляемся… Покажу, где у вас пройдёт наша трасса.
И веселун Богдан, досмеиваясь, грузно зашагал немного впереди. Под ногами у него хрустко ломались, падали с корня тёмно-зелёные сочные, раскормленные стебли.
Почернело всё в глазах у Марички.
«Я каждой кукурузинке по сотне раз кланялась. А он прёт, яко танк!»
Вспомнилось, какая дураха была весна.
Из-за холодов на целую неделю посеяли после срока. Схватилась корка. Не подсоби зёрнам – не пробьются к свету. Пробороновали – закупали дожди.
"Блюдца" сплошь и рядом затянули делянку.
Кукуруза в «блюдцах» желтела, вымокала.
Под гибельным дождём девчата мотыгами пробивали канавки, гнали из «блюдец» воду, подсеивали вручную…
Так тяжко далась эта кукуруза, а он, как гусарский конь, чалит не глядя себе под ноги, крушит всё, выворачивает с корнем. Давит растеньица – будто на душу тебе наступает!
– Что ж вы наступаете? – не стерпела Маричка.
– А летать, увы, нас не научили, – прижав руку к груди, с поклоном ответил Богдан. – И потом, всё равно ж брить! Что тут такого?
– Чужие труды топчете!
– Заплатил и топчу.
– Будто из своего кармана!
– Из своего. Из газового. Отставим этот пустой спор Давайте к делу. Мы отчекрыжим у вас ленту в двадцать четыре метра.
– И чего языком вертеть, как вор мельничным колесом? – вскипела Маричка. – Норма ж… В правлении подымался разговор… Ширина отчуждаемой полосы всего-то двенадцать!
– Нужно двадцать четыре, – монотонно повторил Богдан, всем своим видом давая понять, что эта торговля начинает его утомлять. – Техника тяжелющая. Гигантская. Чтоб не мотаться для разворота в конец поля, будем разворачиваться на месте.
Трудно себя удерживая, Маричка медленно из стороны в сторону пронесла отставленный блёсткий от мозолей плоский палец перед самым носом у Богдана:
– И чего гнать порожняк!? Боюсь, любимушка, не будете вы разворачиваться на месте. Или вы думаете, что я упала на голову и глупей резинового сапога? Заплатили за двенадцать, а дай-подай им все двадцать четыре? Как же! А вы когда-нибудь слыхали про уважительное отношение к каждому клочику земли?
– Допустим. Даже читал в газетах. И что?
– А то, что делаете, как не себе. Давайте спокойно. – Маричка мирно свела на груди ладошки. – Что вы замышляете тут колобобить на первых порах?
Богдан повёл плечом.
– Монтировать трубу.
– Как это выглядит?
– По-моему, красиво. Завезём на «Ураганах» двадцатипятиметровые трубы и станем сваривать в одну нитку… Учтите, какой техникой работаем. Не дадите, сколько просим, – колёсами подавим больше!
– Извините! – Маричка щитком выбросила руку. – Что выделим, тем и обойдётесь. Провезти трубы, сварить… Хватит, я считаю, и восьми метров.
– Помилуйте, – устало посмехнулся Богдан. – Вам ли знать, сколько нам хватит? И потом… За двенадцать уже за-плаче-но!
– Тем хуже для вас! Вот здраво рассудить… Сразу траншею рыть свою не кинетесь. А покуда раскачаетесь, у нас кукурузушка поспеет. Уберём, тогда и копайтесь на здоровье!
"У-у! Такая и у козла молока выпросит!" – лениво подумал Богдан и, вымолчав с минуту, заговорил сердито:
– Ну да сколько же можно торговаться? Вон трубы на пастбище ещё везут!
– А везите хоть сюда! Восемь метров очищу. А попробуйте мне залезть дальше!..
От решительности, с какой говорила Маричка, гость (каков гость, таков и калач) несколько растерялся и ничего не нашёл лучшего – сел да укатил.
Через короткие часы девчата выстригли серпами отмерянную Маричкой полосу.
Будто сняли с себя ленту живого тела.
2
Коли по вершинам хочешь ходить,
научись сперва ползать.
Вечером не горелось сразу забиваться в душные вагонушки, что стояли на ископыченном пустыре за селом, и Богдан, наскоро перекусив в вагончике-столовой, шатнулся в прогулку по Чистому Истоку, окраинке Белок.
У Богдана была своя, выверенная годами, мода знакомиться с новыми сёлами, через которые тянул газ.
Богдан надевал галстук, тирольку шляпу, споласкивал рот одеколоном и, приосанившись, торжественно выступал в боевой культпоход. Он часами неприкаянно бродил по улицам, ищуще пялился поверх плетней с перевёрнутыми банками-глечиками, пялился во все дворы подряд и, наскочив где на канашку с соответствующими его запросам радостными достоинствами, деловито поправлял угол белого платочка, видимого из кармана на груди, котовато, с небрежно-льстивым шиком приподымал шляпу, коротко кланялся, здороваясь.
Обычно этот променад обрывался в том дворе, где Богдану удавалось-таки завязнуть в разговоре.
Но сегодня…
Как-то неуверенно мурлыча про то, что у него и в Томске есть, и в Омске есть любимая, Богдан продул с километрище, и ни в одном дворе не наткнулся ни на одну мало-мальски приличную заводилочку.
Катастрофически быстро темнело.
– Ха тире ха! – устало присмехнулся Богдан. – Даже никакого намёка сегодня на улов. Жирный прочерк!
Он огляделся. Подумал:
"Что ж я зря бегал? Хоть воды напьюсь!", – и свернул в бедный двор.
Калитка в ветхом, скособоченном плетне висела лишь на одной ржавой петле.
Навстречу из ветхой хатки вышла высушенная большими годами-хлопотами сухонькая маленькая старушка Анна. Узнав, что Богдан с газа, обморочно всплеснула ручонками.
– Господи-и!.. Да далась тебе та вода! С газа сытый не будешь! Гляди, голодом там сидите!? А ну, хлопчак, заходь ко мне на свежий борщ!
И даже набежала стопочка сливовицы умочить горло.
Богдан завёл парадно-пустой разговор "за жизнь".
Старухе нравился "хороший разговор". Богдану нравился хороший борщ. Каждый получал своё.
– Ешь, ешь, – ласково приговаривала старушка, ставя Богдану вторую миску борща. Богдан уборонил пока лишь половину первой миски.
– Вы мне не очень-то наставляйте. А то у меня на домашнее аппетит… Не жёвано летит!
– И слава Богу! – светится старушица, робко пряча руки под фартук и открыто любуясь волчьим аппетитом парня. – Борщ домашний. Не то шо у вас. Муха по потолку гуляет под ручку с тараканом, а в борщу бачишь!
Находится ещё миска вареников.
Богдан и вареникам выкраивает место.
Пока всё подмёл, аж упарился.
Повело кота на сало.
"Хороша бабуся, да эх нужна Богдашке Дуся!" – вспоминает, за чем сунулся в село.
Со старухой весело прощается за руку. Долго держит её сухонькую ручку в своей, держит на весу, как бы взвешивает.
– Ты ж, парубец, заходь когда… – в грусти роняет старушка. – Как по дому соскучишься.
– Нам соскучиться, бабушка, ничего не стоит… Ну, спасибо этому дому, пойдём к другому.
Богдан ещё какое-то время кружит по селу коршуном, высматривает в мягких, нежных сумерках свою удачу.
"Неужели весь первый вечер в Чистом куковать по-чистому? Без обжимашки? Неужели припухать на диете ангела? Пох-хоже… А есть же гор-р-рячее… ну гор-р-р-рячущее предложение! Да куда спрос запропастился? А ты говоришь – прогуляться!"
Богдан замечает, что уже совсем темно.
А какие по ночам знакомства? К кому подкатишься?
Не отваживаясь осложнять и без того натянутые отношения с дворнягами, сумрачно сверкавшими на него злыми глазами из-под калиток, Богдан даёт отставку своим угарным поискам.
– Киношки не будет, – вяло взяв под козырёк, уныло докладывает седому бобику, лежал на возвышенке у вереи[426].
Пёс и ухом не повёл.
Богдан обиженно присвистнул:
– Даже барбос на меня ноль вниманья. А ты говоришь – прогуляться!
Заталкивая, утапливая в карманчике угол белого платочка, Богдан тоскливо озирается. Натыкается посоловелым взглядом на круг высоких белых огней, что подымались невдалеке над хатами в садах, и шатнулся к огням.
Он набрёл на ярко освещённую площадь.
Посреди площади томко благоухала круглая клумба. Цвели белые лилии, гвоздики, флоксы, хризантемы, левкои.
Близко к цветам подступали мраморные торжественные колонны дворца культуры.
Слышалось пение.
– Извините, – приподнял Богдан шляпу, обращаясь к цветам на клумбе. – Молчуны вы красивые. Только скучно с вами. Подамся-ка я к поющим Мальвам да Лилиям.
Его поразило просторное и богатое фойе с картинами сельчан из крестьянской жизни.
"Неужели в этой большой хате не сыщется хоть на один вечерок какая-нибудь завалящая медовушка с розовыми ямками на щеках да с фигуристым банкоматом? Всё б какое-никакое разовое приключение".
Крадучись, он на коготках боком втёрся в слегка приоткрытую великанистую дверь, что вела в пустой неохватный тёмный зал, тихо примостился в последнем ряду на краешек крайнего стула, как воробейка на колышке в плетне.
Из темноты ему удобно было наблюдать за спевкой на сцене.
Богдан сразу увидал Маричку, такую пригожую, что грех смотреть на неё сердитыми глазами, и подивился, подивился тому, что эта, по его мнению, слишком строгая дивчина ещё и поёт!
И в то же время чем дольше слушал, всё чаще ловил себя на том, что изо всех голосов выбирал именно её голос.
– Слышь, – вполголоса окликнул подсевшего Ивана Верейского, – а что за пропащая сила… пожилой такой… рядом с Марикой?
Верейский насупился. Процедил сквозь зубы:
– Пристегни своё ботало… Выбирай выражения. Да знаешь ли ты, что этот старик – Верховный депутат от самой от Москвы?! Шесть раз избирался депутатом!!! Дважды Герой Труда! На Покрова памятник ему в Чистом возле школы открывают!
Богдан захлопал лохматыми белёсыми ресницами.
– То-то! – победно напирал Иван. – Это наш Юрко Юрьевич Питра! Кукурузных дел орёл! Руководитель самодеятельного ансамбля «Кукурузовод». Вовсе не случай, что Юрьевич и Маричка стоят рядом. Не только на сцене – в работе всегда рядом. Они звеньевые, в соседях их поля. Юрьевич – Маричкин наставник, первый помощник…
Заслышав знакомую мелодию "Вечера над Боржавою",[427] Иван выставил палец:
– О! Давай помолчим. Давай лучше послушаем про нашу Верховину.
– Який тихий вечiр нинi наближається,Лишь Боржава на бистрині не вгавається Та пташки тi до безтями десь мiж вiтами Розсипаються пiснями, наче квiтами.Дана, дана, дана, дай…Розквiтай, наш рiдний край.Мы милуємся з тобою з висоти скали,Як берiзочки гурьбою схилом ген пiшлиI в промiннi цвiтом бiлим розсипаються,Нiби нам з тобою, милий, посмiхаються.А внизу красуня рiчка заіскрилася,Мовби сонця свiтла стрiчка там розлилася…Чередник корiв iз гаю до села ведеI в трембi ту свою грає, аж луна iде!Вiтер нiжно по обличчю ледь лоскочеться,Про красу спiвать величну серцю хочеться.Впали тiнi у долину – вечорiється…Як чудово в цю хвилину з любим мрi ється[428]!Песня-слеза цветком легла Богдану на душу.
Обмяклый, благодарный его взгляд медленно заскользил по лицам на сцене.
Богдан как-то привык, что в самодеятельности обычно одна зелёная холостёжь. А что ж тут, в" Кукурузоводе", за сборная солянка? Звеньевая и школьный учитель, пенсионерка и старшеклассница, главный агроном и тракторист… Что это за люди?
Мягко тронул Верейского за локоть и, приложив палец к губам, напомнил про Питру и Маричку. Иван согласно кивнул, помолчал, собираясь с мыслями, и, минуту спустя, Богдан разом слушал и новую песню, ясно зачем-то выделяя из всех голосов чистый Маричкин голос, уже который не мог спутать ни с каким другим, слушал и тихий рассказ Ивана.
– Вот Юрко Юрьевич… Шестьдесят четыре. А по-ёт! А житуху какую проскочил? Родился в 1914 году в Венгерском королевстве. В Белках. В пору его молодости горько шутили бедаки: "Захочешь в обед отдохнуть, ложись на своём поле посерединке, да не забудь ноги подвернуть: растянешься – панскую землю примнёшь".
Было время, называли эти места "краем, забытым Богом", называли "Африкой в центре Европы". Неподалеку от Чистого находится географический центр Европы.
За куском хлеба нужда снимала людей в чужие земли. Редко кто возвращался. Раз сорвался гореносец – будто камень в воду.
Батрачили Маричкины родители.
Батрачил сам Питра.
Выращенный самими и собранный с арендованного участка урожай той же кукурузы или картошки ссыпали в две кучки.
Первым выбирал свою долю хозяин.
Питры на плечах вприбежку перетаскивали ему с поля его долю, только после могли забрать свою.
За работой и дети не знали детства.
Сначала Юрко-мальчик пас свиней. Потом его резко повысили в должности. Стал пасти коров.
В семнадцать качнулся искать хлеба на стороне. Копал в карьере глину для кирпичного завода близ Праги. Тянул железную дорогу в Словакии. Водил коней в борозде в Моравии… Перебивался с хлеба на воду.
24 октября 1944 года Чистый Исток освободила советская армия. Весь верховинский край вошёл в Украину.
Советская палица быстро согнала всех чистян в колхоз «За новэ життя».
В заявлении под диктовку Питра писал:
"Я, Питра рко рьевич, крестьянин села Чистый Исток, № 519, понял, что наилучшая жизнь для меня будет в коллективном хозяйстве. Добровольно прошу принять меня в коллективное хозяйство. Все обязанности буду выполнять так, как велит устав сельскохозяйственной артели. 26.1.48 г. Имущество: – (прочерк). Состав семьи: жена Иоганна (взял бедной фамилии), скоро родит".
Не напиши Питра это заявление, где б он был? И что с ним было бы?
Не верили крестьяне, что из колхоза будет толк.
Богатики заставляли детей ложиться под трактор, лишь бы не допустить трактор в поле. Мол, "трактор пашет глубоко и выпахивает мертвицу, а такая земля никогда родить не будет".
Но первый колхозный урожай был выше панского.
Паны и тут нашлись:
– Всё равно их Бог забыл. Это чёрт им дал!
С первой колхозной поры Питра ведёт звено.
Как-то нагрянул к Питре Рокуэлл Кент[429].
В ресторане был организован обед. С красавицей женой Рокуэлла все здоровались за ручку. А Юрко Юрьевич поцеловал её в щёку. Ревнивец Рокуэлл обиделся. Сказал, что такого его глаза ещё не видели и больше не сводил с жены глаз во все дни, пока гостил у Питры.
Обмирая от восторга, целый день Рокуэлл протолокся в звене Питры на севе. И сказал:
– Роден говорил, что человек может быть счастливым лишь тогда, когда станет художником в душе. Вы стали таким человеком. Вы безгранично любите свою работу, землю. Я провёл тут самый радостный день в своей жизни.
Сколько помнила себя Маричка, столько и знала Питру.
Странного здесь ничего.
Её отец, Иван Иванович, и Юрко Юрьевич были неразлучные, как лист с травой, друзья. Дружили домами. Звеньевые. И уж как сошлись, так без разговоров про кукурузу не разойдутся.
"Знаете ли вы землю, где ветер пашет, а дождь сеет, где вместо колоса пшеницы растут высокие ели?"
Да, это Верховина. Русиния.
Постные, глинистые, каменистые склоны тут не щедры…
Однажды обходил Питра свой участок у Боржавы. Увидал толстый слой сизоватого ила.
"Ого, сколь награбила речушка добра у гор! Где лист, где палое дерево – отличное удобрение, чего так нам недостаёт. Как же раньше я не углядел этого ила?"
Стал мешать ил с навозом. Заметно подросли урожаи.
По урожаю Питра обходил Ивана ивановича. Неудачу Иван Иванович переживал мучительно.
Раз он сказал:
– Одна голова – это одна, а две головы уже люди. Давай посоветуемся.
– О чем?
– Накупил до лешего книжек… Живое живёт и думает… Без знания и лаптя не сплетёшь… Так же… Кукурузоньку по книжкам надобно выхаживать.
– А у меня, думаешь, книжек мень твоего? Книжки… Не суй, Ивашка, ногу в чужой черевик. Разве кто писал, бывал у нас в Чистом? Разве знает наши земли? Не про наши места книжки, вот где большой им минус. Надобно самим повязать науку с практикой нашей да наших стариков…
– Ну-ну-ну! – перебил Иван Иванович. – Лучше и не заикайся про дедов. Сеяли, вишь, тоже по «науке». Вол мог спокойно лечь меж рядков и не прикоснуться ни к одному стебельку. Зато и зерна брали втрое меньше против нас.
– Да-а… За густоту не похвалишь. Земли не было. А сеяли так редко. Одначе не всё ж худо, было что-сь и доброе. Взять это доброе, добавить наше с тобой нонешнее, проверить на просторной ниве да и скласть самим книжку. Чтоб молодые не ощупкой, как мы с тобой, шли к добрячим урожаям.
– Мечтать ты, Юрко, горазд. А впрочем… Ты подмоложе. Хватит твоих годков и на книжку. А я буду дышать уж тем, что растёт вот у меня Марийка… Продолжательница…
Спевка начала расходиться.
Нехотя поднялся и Богдан.
– Занимательный, очень занимательный у вас народко, – тряхнул за плечо Верейского. – Жаль, что всего этого не слыхали мои архаровцы. Не то б они… Ну да это исправимо. Я думаю, надо бы им устроить встречу с жителями Чистого. Нам нелишне знать друг друга. Наверняка соберётся весь наличный состав чистых невест. Я обратил внимание, девчата у вас смотрибельные. Есть на чём глазу разговеться. Познакомимся, общнёмся…
Богдан поднёс Ивану руку.
– Ну, держи пять. До завтра.
– Уже уходишь?
Богдан беспомощно раскинул свои грабельки.
– Уходит она… Надеюсь, ты не возражаешь как непосредственное начальство, если я провожу Марику?
– Высочайше соизволяю! – с коротким поклоном насмешливо ответил Иван.
– Ты мне почти ничего о ней не рассказал… Тогда рискну всё узнать от неё самой. Что поделаешь, я до гибели любопытный…
Иван резко, с чужеватинкой глянул Богдану прямо в глаза.
– Слушай, печколаз[430], – голос у Ивана похолодел, – один совет на дорожку. Лихое что в голове держишь – не ходи. Лучше побереги себя. Пришьёт она тебе цветок[431].
– И хорошо! Нарядней буду.
Ночь была ясная.
В чёрной тени колонны Богдан выждал, покуда Маричка не отдалилась на приличное расстояние и только потом стриганул топтать её следы.
Крался медленно, боялся ненароком нагнать.
"Далеко ли она живёт? А вдруг она уже у своего дома?"
Панически набавлял шагу – через минуту вкопанно останавливался.
"Ну ладно, нагоню. Дальше что? Скажу что? Здрасьте, я ваш дядя? Негусто…"
Маричка заметила преследователя. Стала.
Некуда Богдану деваться. Подошёл, как спутанный.
Выдавил:
– Можно… Я провожу?
– Зачем? – В вопросе плескалась улыбка. – Не инвалидка… Ноги есть, сама дойду.
– Ну… Немножко…
– Куда?
– Вообще-то… до дома.
– Я уже дома.
И повела рукой в сторону белой хатки, что словно с испугу вжалась в склон холма.
– Идите уж своей дорогой. Не перебивайте нашей собаке сон. А то ещё проснётся… Вы ей можете не понравиться. Глаза у вас слишком горят.
3
Хорошего вола в ярме узнают.
Всякая работа мастера любит.
Наутро Маричка шла по своей делянке, проверяла, не помяли ли где растеньица вчера ненароком при подкормке, и, задумчиво взглядывая на резные светло-лиловые зубцы гор вдали, напевала:
– Ты гадаешь, гарний любку[432],За тобою гину[433]?Та я десять собi знайду,Лишь бровами кину.Богдан вкрадчиво спросил:
– Что, репетиция продолжается?
Маричка сделала вид, что и не слышит и не видит. Знай своё работает.
– Я читал… Один американский агроном уверял, что кукуруза лучше растёт, когда над полем звучит лёгкая музыка. Звучит нежно, розово, а не хулиганиссимо.
Эффект – пухлый ноль.
Богдан твёрдо рассчитывал, что коронный номер с музыкой над полем наверняка поможет ему завязать близкий, греющий разговор с Маричкой, но она лишь летуче глянула на него как-то безнадёжно, прыснула в шоколадный кулачок. Эх, тёмный лес – никакого просвета!
– Мда-а, одна птаха лета не напоёт… – то ли себе, то ли Маричке в спину с несмелым, мяклым укором бросает Богдан. А сам переминается с ноги на ногу, не решается двинуться следом.
"Ничего, я терпеливый, как камень. Подожду…"
На второе утро снова прикатил. Растерянный, словно заяц.
"И не знаю, с какого боку к тебе и подступиться…"
Робеет, не найдёт речей Богдан.
Молчит и Маричка, будто немая.
На третье утро сознаётся в мыслях Богдан:
"У меня от тебя в душе рана, как могила глубокая. Хоть куда иди, а я привсегда вижу тебя…"
И следом поплёлся, как блудный пёс.
Казнить молчанием не рука.
Маричке понравилось, что возили вот по её коридору экие трубищи, а и стебелька внечай не подломили, а и на ладошку не заскочили в сторону от того, что отвела сама.
Сказала, чуть повернув к нему голову из милости:
– В соседних сёлах жалятся, страшное дело, сколь это лишних посевов переводите…
– Так то ж в соседних…
– Выплывает на поверку, можно и вот так везде тянуть газ, – взгляд на тесный, аккуратненький «коридор». – А что мешает?
– Не нарывались на таких, как вы, – чистосердечно признался Богдан.
– Во-он оно что! Чем же я плоха?
– Проще сказать, чем хороши…
– И на это запрета не кладу. Говорите.
– Ух! – Торопливый, как суета, Богдан готовно усмехнулся. – Чересчур громко получается… Махом и не сказать… Одно слово… Тут по-быстрому не… А знаете! – вспыхнул Богдан ликующим отчаянием. – А давайте встретимся вечером. Для дела ж…
Повела Маричка ласковой, смоляной бровью на шнурочке – узенькой, ровной, красивой.
– Ну разве что для дела…
И вечером, при огнях уже в окнах, шли молодые по селу, смущаясь друг друга.
Где-то за околицей, у вагончиков, под хромку дурашливо и хрипло раздишканивал какой-то партизанко:
– Меня милашка разлюбила,Что же я поделаю?Пойду к речке, к проруби,Вокруг неё побегаю.Второй удалина парень, по-бабьи ломливо взвизгивая, назидательно отвечал:
– У моей-то грубеянки[434]Двадцать два сударика:Два женатых, два седых,Восемнадцать холостых.Пожаловался и третий:
– На крылечке две дощечкиВетром перекинуло.Мы с залёткой не видались —Два годочка минуло.Богдан подумал, как бы эти певуны не посыпали солёными тараторками, и, норовя разговором покрыть неясные, будто придушенные, голоса от вагончиков, подхлёстнуто попросил:
– Марика, расскажите про себя.
– Думаете, это интересно? – искренне удивилась Маричка.
– Спрашиваете!
У Голованя Ивана-младшего росло трое детей. Старшие, Костя и Вера, завеялись уже во Львов.
Это нравилось и не нравилось старикам.
Оно, конечно, лестно, что вот Костик, сынаш бывших батраков, преподавал в торгово-экономическом институте. К сердцу вроде ложилось и то, что и Вера правилась по стопам брата, в том же институте копила ума.
Правда, Вера клялась-божилась, что неминуче вернётся в Чистое. Она и в самом деле потом таки вернулась в Чистое, в торговое объединение экономистом. Да какой с того возврата навар?
Ушёл, стаял с земли Костя; и Вера на земле не работница. Гостья.
Будь они хоть раззолотые спецы в своём тоже нужном деле, а коль не при земле служат – не та, не та им стариковская цена, совсем не тот почёт.