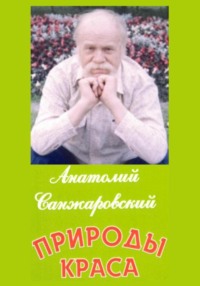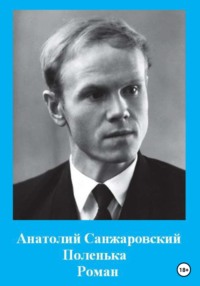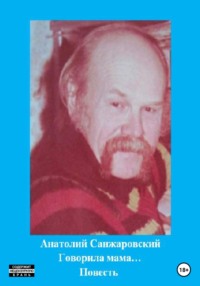Дожди над Россией
– Не, дядько! Ещё не всё я у вас выпросила! Для надёжности ще скажить какую отсушку… Чтоб эта чёртова Васюра отсохла на веки вековущие! Отсушку б ещё какую для надёжки…
Дед скребёт за ухом, как-то смущённо улыбается:
– Отсушка… присушка… усушка… рассушка… Для трудового человека мне что угодно не жаль. Слухай хотько эту… Как у реки Омуру берег с берегом не сходится, гора с горой не сходится, у дуги конец с концом не сходится, так бы Алексей и Василина век не сходились и казалось им друг против друга лютым зверем и ядовитым змеем, а если бы и сошлись, то как кошка с собакой дрались.
Надёна сморщилась, как печёное яблоко, и сердито отмахнулась.
– Дядько! Испортили гэть всё! Я просила хоть горсточку добавки к радости, а вы иха сводите! Да если они свалёхаются, иха тракторами не раскидаешь!
– Так зато они драться будут!
Надёна кисло пожмурилась:
– Удивили! Да я со своим паразитярой уже второй десяток дерусь! А живу… Хоть и живём, как матрос Кошка с дикой собакой Динго… И Васюра будет драться да жить… Не-е!.. Сводить иха не надо. Счас же заберить у ниха вторую часть отсушки!
Старик вяло вскинул руки. Еле махнул:
– Уже забрал.
Надёна светлеет лицом.
– Ладно… Больше ничего путного у вас не ущипнёшь, – сказала вслух самой себе и пошла из комнаты.
– Михалч, – выпрашивает мама у деда уступки, – да пошепчить парубку на ножку ще хоть трошки. Для верности… Чи вам жалко?
– А хренушки, Полечка, шептать без толку?
Вся комната так и ахнула.
– Кто вам, – слышался ропот, – ни кланяйся своей бедой, помогало.
– То для духу. А тут шашечка на боку, как милицейский наган… Боль скаженная. Нога на соплях дёржится. Ано все жилочки-суставчики напрочь порватые. Дёржится нога одной кожей!..
– Ты, кудрявый дягиль, и припомоги! – напирал с крыльца кто-то не видимый за спинами. – Мне шептал – до се живой бегаю!
– На тебя, трутня, и шёпота хватило! – отстегнул старчик и невесть что дуря понёс: – Гадаю по трём линиям. Жив будешь – там будешь!.. Пустые хлопоты… червоные разговоры о поздней дороге. В горло наше за здоровье ваше, а людям никогда не угодишь!
Семисынов сконфузился, прикрыл ему рот рукой.
– Чересчур, отъехавший[149] Хренко Ваныч, угодил… Ну долбак долбаком… Сидел бы, дельной, дома. Знатоха!..
И вывел вон под ручку.
И уже с улицы добежало до уха ляпанье по бедрам.
Старчик плясал с картинками:
– У Ер-рёмы лодка с дыркой,У Ф-Фомы-ы чулок без дна!..– Надо, тётко, в больницу, – рассудительно посоветовала маме Груня, жена Ивана Половинкина. – Мой с минуту на минуту погонит машину на ночёвку в гараж. А гараж в том же центре. По пути и захватит вашего хлопчика. Шла сюда с Надькой и Матрёной, так Ванька ещё вечерял… Сбирайтесь…
Народ нехотя стал выходить из комнаты.
Мама растерянно закрутилась посреди комнаты, не знает, за что и хвататься.
Тут вернулся Семисынов, подсел ко мне и заговорил тихо – никто третий не слышь:
– Раб Антоний, ты особо круто не серчай на моего приятельца колдуна. Ну… высвистал баночку… храбро принял лекарство от трезвости… Не с дури да не с радости… С горя! Горе его никакими годами не задавить. У него вся жизнь перевернулась вверх торманом. В молодости его загнали на Соловки. Кулак! А что там от кулака? Лошадь да мельничка были – вот и кулацюра! Его, значит, на Соловки, а жену с детьми малыми повезли в телячьем вагоне в Сибирь. Да не довезли, куда везли. По слухам, вроде путь забило… Весь состав был с одними раскулачиками… В тайге вытолкали всех на лютый мороз. Кругом ночь да мороз и нигде никакого домка. Все и поколели…Закон – тайга… А мой помозговый Афанасий сбежал с самих Соловков! Да не один, прихватил ещё парочку страдаликов. У них были пила, топор, молоток. Спилили дерево, выдолбили в нём лодку и убежали на материк… Всю державу по закрайке избéгал, всё прятался. Про Амур в отсушке поминал… Был и сам на Амуре… Тут в соседнем горном селении прибился к одной вдовой грузинке. Взял её фамильность… Чтоб не нашли… Это не какой там тебе беспутный лохматкин прыщ…[150] Всю жизнь в прятанках… Как такому горюше в выходной не поклониться стаканчику?
– Анис! – взмолилась мама. – Да кончайте вы свою шептанку! Я уже приготовила всё для больнички. Пора выряхаться!
– Пора, пора, Поля, – соглашается Семисынов. И мне: – Я тебе под случай ещё кой да чего подрасскажу про этого Афанасия…
Я кивнул.
– Э, якорь тебя! Будете!.. – Митрофан помог мне сесть на койке, сам сел рядом. Давнул Глеба в плечо. – Присядь. Пускай обнимет нас за шеи и понесём.
Я повис на братьях. Они подставили под меня сплетённые пальцы в пальцы руки. Я уселся на их руках, как на стуле.
Они чуть не бегом на угол. А ну без нас уедет!
Если строго кланяться порядкам, на ночь Иван должен отгонять машину в центр, в гараж и возвращайся домой, как знаешь. Но в будни Иван обычно оставлял машину на ночь на углу нашего дома. Идёшь утром к сараю, всегда чудищем на косогорье торчит.
Сейчас машины не было на углу. Значит, на дороге. Там он всегда её ставил, когда забегал домой на минуту.
Мы мимо Половинкиных окон к калитке.
Уже на каменных порожках скакали мы через ровчик к шоссе, когда нас обогнал Иван. Бирюком воткнул глаза в землю, чуть не вприбежку веял к машине на обочине.
– Ва-анька! Ва-а-а-анька! – просяще закричала Груня. – Возьми-и! Возьми-и ж!!!
Иван даже не оглянулся, только подбавился в прыти.
Кажется, ещё и дверца не открылась, как машина чумно дёрнулась с места, с нервным рёвом пожгла в сумерки.
Всё оцепенело. И люди, и дорога, и ёлки при дороге, обегавшей посёлок с нижнего края.
– Ну не паразит? – вшёпот спросила обомлело мама. Выкрепла в мысли, пальнула во весь голос: – Паразит!! Чтоб тебя черти там купоросом облили! Паразитяра! Люди! Невжель такого паразита может человек родить?
– Может, Полько, может, – глухо откликнулся с высокого крыльца бородатый старик Филарет, Иванов отец.
Крыльцо было туго увито царским виноградом, старика не видать. Казалось, говорил он будто из царской ночи, с небесной выси.
Наш горький домец прилепили на бугре, и если крылечки с нашей стороны сиротливо, распято лежали вприжим к земле, то с этой стороны они были высокие, какие-то недоступные, надменные, как и люди, кто здесь жил.
Из двенадцати комнат шесть на этой стороне занимали за виноградом Половинкины. В одной жили Алексей с Надёнкой, в другой – Матрёна с Порфирием, а в остальных – Иван с Груней, Ивановы старики и Марусинка, младшая их дочка. Ни у Ивана, ни у Матрёны детей не было.
Лежливый старик Филарет был похож на отшельника. Сколько себя помню, я ни разу не видел его среди людей. Я видел этого лесовика только на его огородах, у речки, в диких чащобах.
Бывало, бежишь утром за своими законными худыми двойками в школу, а он, лесной дух, окаменело сидит, не шелохнётся. Кажется, неживой, из камня; и протянутая рука из камня, и удочка, и даже вода из камня. Заслышит сыч шаги, лупнёт полохливо под дремуче-лесистыми бровями глазками и тут же отвернётся. Странные были эти глаза. Махонькие, круглые, как у серийного магазинного медвежонка. И всегда в них дёргались, варились одновременно и ужас, и недоумение, и раскаивание, и ожидание беды. Нелюдимец не мог смотреть вам в глаза. Глянешь на него – он тут же прятал свои суетливые глазки, боялся, будто ты мог прочесть в них что-то такое, что он так тщательно скрывал именно от тебя.
– Вовцюга он у вас! – крикнула в слезах мама.
– Шо ж ты так, бабо, погано лаешься? – сдержанно, как-то без зла выпел старик Филарет.
– А не то человек? Поехал порожняче ув центру! Ми-мо ж больницы поскачет и – не взял! Да иль малый кусок машины откусил, кабы взял?
– Неразумные твои речи слухать тошно. Разе Ванька хозяин машине? Над Ванькой ещё пять этажов начальников. Ну, будет везти твоего, встрене директоряка. Большое спасибо Ваньке в карман положит?.. Большой вы-го-во-реш-ник! Премию скачнёт. Запретит и по будням на ночь ставить дома машину. Не вози без спросу!.. А ежель ты сверх меры умная, сбегай в центру, добудь у директора записку. Тогда Ванька в обратный ход пешедралом слетает в гараж, честь честью приедет и свезёт твоего удалька. Толь и делов!
Старик нёс несусветную дуристику. Даже все зеваки с лица повяли. Но никто не поднялся возразить.
В районе одна машина, один тракторок. И всё у Половинкиных. Приплавить ли кукурузу с тунги в осень, привезти ли дрова из лесу – скачи к Половинкиным на поклон с хохлом, челобитье с шишкой. Как тут вякнешь?
– Зверюги!.. Посажать вас мало!.. Как на том свете отвечать-то станете нам? – ругалась мама.
– Шибко не печалься. Мы ответчивые! Ловкие на ответ.
– Вы на всё ловкие! Скрозь вывернетесь, скрозь выплывете! А хлопец сидит на дороге, без ноги останется… Батько погиб… одна с тремя… Отстала я от счастья… Как рыба об лёд… Нашёл на ком вымещать зло. На больном хлопце! И за шо? Шо не дозволила ишачить на него, на твого Ваньку! В восьмых классах мой колоброд с Клыком намечтали стать грузчиками, подвязались грузить ему. Как нанялись! Он и радый. Руки в брюки, стоит лыбится, как те зеленцы здоровенны ящики с чаем таскають на машину. В одном ящике – все четыре пудяки! А шо низзя таскать им такие тяжести, ему безо разницы. Бесплатные грузчики! Чем погано? То и платы, шо прокатит до фабрики и с фабрики в три часы ночи. Зато тута нагрузят, там разгрузят. Кровосос! Во-о кого надо выносить на зорю! На чистый!
Дед Филя не нашёлся, что ответить.
– Всёжки Ванюня подлюка, – хмуро сцедил сквозь зубы Алексей. – И родной братеня, а подлюка знатный. Мимо поехать и не взять? В ум не впихну… Озверел Иваха… Да что ему чужой? Родного брата, где хошь в лесе зверям толкнёт и не охнет!
– Говнюк! – сорванно стеганул сверху старик. Допёк Алексей папашку, сдёрнул со смирного, со спокойного хода. – Невооружённым глазом сразу видать, ре-еденько засеяно в мякинной сообразиловке. Не погляжу, тараканий подпёрдыш, что женатый, задницу налатаю! Надень на язычок варежку да смолкни. И так вонько! Думай, свинорой, чего мелешь. Кидай кусок наперёд!
Алексей поник лицом, притих, как-то ужался.
Похоже, ляпнул он по горячей лавочке что-то такое или близкое к тому, что семья в чёрной держала тайне.
– Может, ма, – сказал Митрофан, – сбегать ещё на четвёртый? К дядь Ване Познахирину?
– А поняй… Чего выглядать? Надо шось делать. Поняй… Эхэ-хэ-хэ-э… Холодные люди друг другу помощники…
– Поля, – встрял в разговор Алексей, – я б и сам побежал с Митюхой. Ночь… А ну Познахирина нету дома? А ну машина в гараже? А гараж где? В том же центре… А не скорей ли будет… Если не побрезгуешь, давай я стартаю на своей музыке? – глянул себе под крыльцо, где меж высоких столбов дремал в вечерней прохладе упревший за бестолковый воскресный денёк синий тракторишко. – Дорога к совхозному центру терпимая, не то что на четвёртый. Но трепать будет… А мы потихохоньку. А мы полегохоньку. А?
Мама промокнула слёзы на глазах листком узелка с моим сменным бельём.
– Так-то способней оно. Уж лучше плохо ехать, чем хóороше стоять на месте.
Алексей как-то вызывающе завёл ремнём тракторок, и мы с весёлым, ералашным треском двинулись в путь.
Вечер торопливо зажигал первые звезды.
Звёзды старательно подсвечивали нам и ехать было совсем не темно.
– Покрепче, братове, держимся за воздух! – подбадривал нас Алексей перед особенно глубокими колдобинами.
Он знал их все напамять.
В прицепном кузовке я сидел на одеяле. Митя и Глеб тесно жались с боков, сронив ноги с тележки до земли и загребая подошвами всякий дорожный сор. Ни вправо, ни влево не шелохнись. И больше всего братики боялись, что на ухабах кого-нибудь из них подбросит и уронит мне на больную ногу.
34
Дороже собственного здоровья может быть только лечение.
М. ДружининаМеня положили в коридоре.
– Это не прихоть моего царства, – сестра с вшивым домиком[151] на голове и пустила из шприца пробную струйку. – У нас коридорная система. Все палаты занавалены. Хоть пойди проверь.
«На ногу не наступи, а бегай с проверкой?» – подумал я и промолчал.
– Значит, у матросов нет вопросов? Тогда начнём ремонтироваться. На старт!.. Скидавай штаны для первого знакомства!
Я законфузился, закраснел.
– Фа! Да ты чего такое вообразил? Мне-то давай всего краёк попонии. Поторапливайся, пока уколики бесплатные.
На живот не завалиться. Я кое-как выкрутился на бок.
– А обязательно? – спросил. – Для чего уколы делают?
– Для скрепления любви.
– Ну-у…
– Что ну? Что ну?.. Ну, от двоек, мальчик! На выбор! Тоже не устраивает?
– А почему такой длинный мне укол? А если насквозь пробьёте?
– Чоча зашьёт дырку. Дратвы и смолы хватит…
Она чуть столкнула верх трусов, сделала мне маленький прокол-укол. И важно удалилась.
Из комнаты напротив вышатнулась тётя Паша, Юрки Клыкова мать. Была она вся пухлая.
Тётя Паша трудно подсела ко мне на койку.
– Сбедил себе ножушку? – одышливо спросила. – И, похоже, очень… Как же ты так?
– Да умеючи разве долго? Да если ещё ваш Юрик поможет?..
– Юрша? – Тётя Паша разбито плеснула руками. – Ка-ак? Когда? Где это связалось?
– Да вы не расстраивайтесь… Совсем в полной случайности… На футболе… Юрка совсем не хотел…
– Да что… Хотел не хотел, а нога толще ведра. Так распухнуть…
– На Юрке вины никакой. Сам я виноват.
– Какая беда привяжется… Попал сюда… в долину смерти… Что ж делать теперюшки? Лечись, дольчик.[152] Привыкай. Я вон за две недели уже привыкла. Вся своя… вся смелая… Совсем неходячка… Врачуны жи-иво вольют здоровья… Я смотрю, ты уколов боишься? А ты им назло не бойся… У нас две сестры. Одна делает уколы – как муха укусила. «Я сейчас, минуточку! Болей никаких не будет». Почешет и не заметишь, как уколола. Прямо руками здоровье даёт. Когда её нету, все в окна выглядают, всегда ждут, как Паску. А другая, вот ушла, – все трясутся. Так боятся. Колет долбёжка – как ножом пыряет!
– Клыкова! – шумнула сестра из темноты прихожей. – Хватит трындыкать… Что вы ноете? Просите дополнительный укол? Почему вы свой боевой пост оставили? Давай, давай к себе в палату! Живолётом!
Тётя Паша выразительно посмотрела на меня – а я что говорила? – и, разбито охая, поскреблась в свою палату.
Скоро сестра снова выявилась с градусником. В который раз! Что она раз за разом пихает мне под мышку градусник?
– Все кругом тяжёлые, один ты, хухрик-мухрик, лёгкий, – ответила на мой немой вопрос.
– Поэтому лечите одним градусником?
– То есть?
– А без конца меряете температуру.
– Потому и меряю без конца, что температура у тебя без конца лезет вверх. Верхолазка! В градуснике деления не хватает. Забегает за край.
И она, забрав у меня после градусник, смотрела, как мне показалось, не на сам градусник, а намного дальше вправо, будто у градусника было продолжение, которое никто не видел, а видела лишь она одна.
Кто-то подсказал позвать Чочу.
У сестры и на это тут же спёкся ответ:
– Какой Чоча по ночам? Да в выходной? Врач что, не человек? Утром насмотрится… – И мне: – Потише ойкай. Температура и сникнет.
Потише у меня не получалось.
Даже из-за стены колотили в фанеру:
– Эй! Кричун! Кончай орать! Ехал бы на хутор бабочек ловить! Из-за тебя ж кина не слышно!
За стеной во весь коридор был клуб. Больничный коридор как бы разламывал барак по всей длине на две равные половинки. Больничка с клубом жили под одной крышей. Разделяла их тонкая фанера, где ходячие больные понаковыряли дырок, теперь выворачивали глаза и бесплатно подсматривали кино.
– Только первый день и уже никому от него нету покоя, – шикали на меня от стены свои киношники.
Пяти минут не сошло – уже мешаю я и в зале.
– Ты усни, и боли твои уснут, – рассуждал кто-то из-за стены. – Будь хоть каплю человеком, дай послушать, чего мне с экрана сорочат. Знай себе спи!
Я закрывал глаза.
Но боль всё равно рвала меня, и мой собачий скулёж сквозь сомкнутые губы дёргал людей и по эту и по ту сторону стены.
Со временем боль обжилась, освоилась, присмирнела. Эта притерпелость даже позволила мне забываться в коротких, как замыкания тока, снах.
Сны были быстролётные.
Я нырял из сна в сон, как самолёт из облака в облако.
То после игры мы довыясняли отношения с футболёрами с четвёртого. Дрались картошками. Из земли выковыривали пальцами и пуляли. Хозяева этих огородов, что были рядом с «Мараканой», парили в воздухе с мешками-сачками на длинных рукоятках, перехватывали летящие картошины. Собирали свой урожай.
То Алексей гнался на тракторе за игрочишками с четвёртого. Те врассып свистели кто куда.
То Авакян клялся, что это он ночью поколол шилом колёса Ивану Половинкину: «Пускай этот скот накачает новый воздух, а то старый уже испортился»!
Во снах я много летал.
Светлое пятнышко то несло меня ввысь, то куда-то резко вбок, то вдруг вниз… И снова вверх… и снова колом вниз…
– Центр земного шара! – объявил диктор.
Ого! Донесло до красной земной оси в солнечных бликах. Красная земная ось? Раскалилась? Так пашет на красных? На их михрюткинский коммунизмишко?
Вижу, ось уже подустала, дымится.
Я весело плесканул красного песочку на красную ось, и она, охнув, завращалась помедленней. С чувством глубоко исполненного долга я оттолкнулся от неё ногой, полетел вверх и влетел в февраль тридцать третьего, на первый всесоюзный съезд колхозников-ударников.
– От вас, – говорил «величайший стратег освобождения трудящихся нашей страны и всего мира», – требуется только одно – трудиться честно, делить колхозные доходы по труду, беречь колхозное добро, беречь тракторы и машины, установить хороший уход за конём, выполнять задания вашего рабоче-крестьянского государства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов пробравшихся туда кулаков и подкулачников.
Пятнышко скачнуло меня в сторону, и я уже на первом всесоюзном совещании стахановцев.
– Очень трудно, товарищи, жить лишь одной свободой, – голос «гениального вождя» тонет в одобрительных возгласах. – Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело, и вот на какой почве выросло стахановское движение.
«Кошмар добра»!
Я не заметил, как меня внесло в май тридцать девятого.
– Так вот, товарищи, – лился соловьём «великий артист и главный дровосек» на выпуске «академиков» Красной Армии в Кремле, – если мы хотим изжить с успехом голод в области людей и добиться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных двигать вперёд технику и пустить её в действие, – мы должны прежде всего научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях кадры решают всё.
Как любил людей отец всех народов! Любил всех и особенно каждого в отдельности. Так любил, что в его кровавых чарах сгорел разве один десяток миллионов? «Только с 1937 по 1939-ый репрессиям подверглось около четырёх миллионов человек». А за всё время советского счастья? Точной цифры нет. Такими глупостями статистика не занимается. Одни называют сорок миллионов, другие – семьдесят миллионов. Кто же за них постоит? Не-ет. Жив я не расстанусь с «главным инквизитором».
Раз уж я залетел так высоко, пройду заодно к Нему. К Самому. К «вождю мировой революции».
Прошёл и говорю:
– Хочу под вашим мудрым руководством поглубже развить уже вами развитой социализм. Не хочу «потихоньку вползти в социализм», как «враги народа» вползают. Хочу открыто развить! Дальнейше углубить!.. А там, наверно, работы будет ещё больше. Слышал, у вас уже намечен день прихода коммунизма?
Он поморщился:
– Никакой конкретной даты! Никакого особого «вступления в коммунизм» нэ будет. Постепенно, сами нэ замечая, мы будем въезжать в коммунизм. Это не «вступление в город», когда «ворота открыты – вступай».
– И все равно работы много, – сказал я. – Буду работать без выходных. Как вы!
– Это хорошё. Какой конкретни участок ты просишь? Что ты можэшь?
– Я могу в неограниченном количестве ставить запятые!
– Запятые – это хорошо. Запятые я сам нэжно уважаю. Запятая… как молодая красивая луна… Через много лет один… Через много лет будет нэ один. Будет очень много таких куманьков… Все умники осмелеют, будут дёргать меня, как мышки мёртвого кота… Через много лет учёный куманёк некто Куманев напишет про меня в статье «Корифей» «совершенствует…»: «Большинство выступлений писал сам, и более или менее гладко, хотя иногда проскальзывали грубые грамматические ошибки (с кем не бывает!). И очень любил запятые, которыми сверх меры пестрят его рукописи…» Этот куманёк мне мэру устанавливает? Сколько я напишу, такая и мэра!.. Не обижайся, запятые я тебе не отдам. Что ты можешь ещё? Откуда ты приэхал?
– Из ваших мест. Из Гурии.
– Гурия! Зелёный перл![153] Будэшь пробуном!
– А что это за должность?
– Почётная и вкусная. Сладкая! – Он поцеловал три пальца. – Капусту по-гурийски с жареними куропатками любишь?
– Куропатку я и живую в лицо не видел.
– А теперь будешь кушать! Моё любимое блюдо. Utyfwdfkt,[154] ты будешь кушать первый. Нэмножко. И запивать хванчкарой. И эсли ты нэ помрёшь, начну кушать я. Твоя специальность – ты кушаешь первый! Понемножко во всех местах! Пробы снимаэшь. Пробун!
Совесть шепчет: пропусти вперёд Большого Папу. Будь со старшими вежлив.
– А нельзя, я буду есть вторым? И всё?
– Наоборот нэлзя. Не то тэбе шепчет твоя совэсть. Присмотрись к ней.
Присматриваться мне было некогда. Как увижу капусту по-гурийски с жареными куропатками – я неуправляем. Гусь я увлекающийся, неостановимый. Не остановлюсь ни за что, пока не дохлопаю всё под метёлочку. Съем и культурно оправдываюсь:
– Мне кажется, вам пища эта противопоказана. В ней этих… как их?.. Нитратов, что ли… Не многовато ли? Прямо ну на зубах вязнут! На языке какой-то солоновато-металлический привкус.
– Но ты нэ умираешь!
– Ну! Что мне здорово, то вам смерть. А готовить больше не из чего. Что по талонам «развитого иллюзионизма» дали, то я всё и оприходовал.
– Что они там, на Особой кухне, думают? Нэужели нельзя найти хотя бы одну печёную бронницкую картошину в мундире?
– И голенькие все вышли.
Моё усердие в работе губило рыжеглазого властелина из пластилина. День оставил без еды, два, три, а там и понесли его. Голодом дожал.
Через несколько дней Большой Папа вызвал Маленького Папу и сказал:
– Лавренти, я слышал, ты любишь коллэкционировать анэкдоты в комплэкте с тэми, кто их рассказывает. Унивэрсал!.. Но я привёл тебе не анэкдотчика… Не экземпляр для твоей коллэкции… Позаботься… Внимательно посмотри на этого рыжэнького гуриели. Зэмлячок! Один сделал то, что нэ могли сделать миллионы моих и по совместительству твоих врагов. Ты эщё нэ забыл, что кадры решают всё? Этот кадр эсли нэ все, то многие твои кремлёвские проблеми можэт решить. Тесные монолитные ряды трудящихся Кремля о-очень нуждаются в сэрьёзном прорэживании… Да, о-очень… Нэ перепутай карандаши. Нэ вздумай расписаться на эго судьбе синим карандашом. Синяя твоя подпись – смерть без суда и следствия. Я это и мёртвый помню…
Маленький Папа поманил меня к себе коротким дутым пальцем.
– Не горюй, дорогой, – пошлёпал меня по щеке Маленький Папа.
Он что-то начеркал на листке, подал мне.
«Паидешь ко Мне, пробуном. Так кк ты согласный? Ты работай а помочь мы и так поможем».
– Не пойду.
– Почему?
– Вы большие буквы не там ставите, знаки препинания не выносите… Грамотность… И вообще…
– А вообще… За достигнутые выдающиеся успехи я премирую тебя для начала книгой незабвенного Бориса Петрова «Тактика вредительства». Моя любимая книга… Настольная. Отрываю от сердца. Она из золотого фонда Сталинского Социализма. В Есесесере безработица никому не грозит, а тебе тем более. Пойдёшь… Дело тебе хорошо знакомое. Партия направляет тебя в пробуны.
– Лично к вам?
– Лично у меня такой вакансии нет. Есть горящие объекты. Одного клоуна надо срочно обслужить. Зажда-а-ался!.. Спляшешь ему гопачок по-гурийски с жареными куропатками. – Папа подпрыгнул жизнеутверждающе на манер из гопака, чуть было не хлопнулся на шароватый элеватор и сказал: – А потом родина и долг позовут тебя к другим столпам и столбикам.