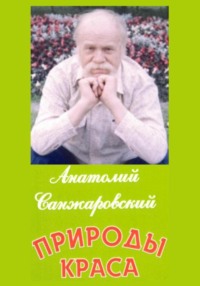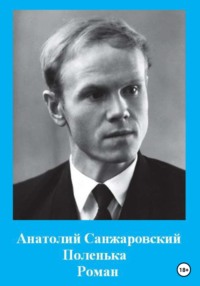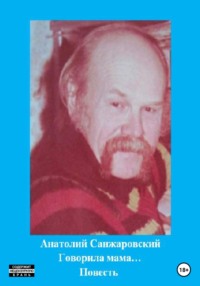Пешком через Байкал
Через малые минуты, нахваливая завтрак, уже последняя группа молотила на полный рот.
Я давно отстоловался, но уходить не уходил. От этого тёплушка, от этой чистоты, от этого спокоя не летелось в ночь, в метель.
– За полчаса, всего за полчаса эку оравищу дурноедов напитай! Стахановцы!
Светлана с улыбкой подавала поклоны и раздатчице, вытиравшей со лба пот, довольной, что к ней уже никого не было, и кассирке, что подбивала выручку, и мойщику в окошке, в ответ с поклоном тронувшему рукой низ своей курчавистой могучей бороды.
– А спасибко давать в первую очередь надо Гене, – сказала раздатчица. – Разворотливый…
Осадистый парубец, вихляя со столбиком тарелок к синей кухонной двери, оглянулся на те слова, сконфузился лицом и, накинув прыткости шагу, припадая набок, счастливо пропал за дверью.
– Он у нас штабист, – пояснила мне Светлана. – Будет замыкать колонну. До Бама Гена в Танхое жил. Мы заране и снаряди его гонцом. Просили сорганизовать спортзал. А Гена прояви от себя общественную инициативу, заказал и завтрак ещё. С завтраком такой крутёж… Полстоловки гриппует, так Гена с вечера примчал сюда. Дед, неспокойный Николай Митрофанович Ефиркин, вслед хвостом. Накроили гибель дров, картошки начистили пять вёдер. С вечера так и не уходили…
– Вправде, дочуня, выдержали рекорд, не ходили, не ходили, – готовно отозвался старик, на ходу промокая руки полотенцем, что было вправлено одним концом под ремень на боку. – Люди мы небольшие, нуждица кликнула, мы с Генушкой, как армейцы, – валенок к валенку, подушечки пальцев к виску, натянуто подобрался, – тут как тут. Ну раз надонько, какие речи?
– Устали? – спросил кто-то.
– Э-э, – посмеиваясь, старик вяло повёл руки врастяжку, – не устаёт один Бог. А я… самый давний танхойский извековалец… Всю жизнь втуточке толкусь на одном местушке, стал быть, головной сибиряк, корневой… Вишь, однако запятая-то какая – надёжа на меня, как на вешний ледок! – потерял уже восемьдесят четыре золотых годика…
Он так и сказал, виноватясь, с детской горечью: годика, именно так, никак иначе, я не ослышался. Кроме горечи в его голосе, в лице было и детски-светлое удивленье, казалось, он и сам временами не верил своему уклонному возрасту, удивлялся, вроде года эти – так, пустое что невзначай сронил с языка, вроде это и не его года и вроде как его.
Но со стороны ни в какие силы ему не дашь его закатные, потопные года. Молодой, весёлый, крепкий румянец горел на тугих щеках, на которые высокие стариковские лета так и не осмелились накинуть сетку из морщинок. Не дед – роскошь! Одна борода всех богатств сто́ит!
Похоже, мой телячий восторг подбил старика похвалиться: простодушное сердце не терпит.
– Однако давнушко поставили меня на инвалидность, по-вашему, ссадили на пенсию по годам. А я как был вечно плотник, да так и остался. По се день хожу в совхоз. Не изработался, не истёрся ишо… Хватливый ишо так. Где починить, где состроить чо, там на вспохвате и я. Ничо в свете не надобно, абы топорок в руках… Не сплетни сплетаю. Во-он Генушка не даст почём зря брякать.
Гена – он вытирал соседний стол – согласно кивнул, подплеснул маслица в огонь, отчего старик, брызнув ясной улыбкой, пустил слова свои вольней, разбежистей.
– А чо! Не в престарелом, чай, доме… Ходи свети топорком! С бабкой мы одне в избёношке. Сподрушному хозяйству… какое оно там? – кот да веник! – бабка одна управу даст. Наизаглавно мы с ей ишо когда обладили! Ребятёжи полное накопили лукошко, впустили в жизню однех сыновьёв семь. Се-е-емь! С мальства никого не сняли с учебы. Все имеют грамотёшку. Все на все руки годные, служат кто где… При нас ни одного. Чем прикажешь заняться? Пинать воздух? Бабка – она у меня рекордная, с лица хорошая и так развитая на все стороны – навроде бы при делах-заботах. Норовит нигде не проспать… Покудова с пенсионерией перемоет известия все колодезные, и дня уже нету. Удёрнуло, забрало трудовой день, был, да весь вышел, сгас, недосуг и болячки свои стариковские понянькать. Поохивать, вишь, стала… Я покуда, Бог миловал, исправный здоровьем, не износил ишо. Век свековал, был тощей соломины. А в поза-тот год разморде-ел, навёл тело, широконько подправился. Прям бока заворотились!.. А… Глазами доволен, не тяжёлый на ухо, перевышение кровей, давление, – это игрушка ишо не моя…
– А одышка чья игрушка? – с напряжённым смешком подколол Генка, пробуя взять со столешницы горку тарелок.
– Собирай боле! – взбросил глаза вприжмур дед. – Генушка, бесхвостой ты ветродуй, где ж твоя стыдобушка? На кой жа ты перед заезжанином офальшивил дедку своего? – конфузно, уговорливо выпевал вослед Генке старик.
Вприбежку Генка нёсся с посудой на кухню и, похоже, не слышал.
– Терпи, голова, в кости скована… А! Это у него, у просмешника, так, с морозу сорвалось… Одно пустое, милок, званье, а не опышка… А хоть и… Чё ж теперь, скласть ручки? Молиться на её? У меня не дождётся! Мало-малешки ну давит… Топорком отбиваюсь, покудова не вышел из сил. А успокоюсь, угребу топорок туда, накажу в оголовье положить. Жили-были союзно ладом, вместе хорошо и отмирать.
Во весь разговор старик от души, просветленно насмеивался. Видите, ему даже помирать хорошо.
Боже, да настань та минута, он, гляди, и смерти посмеётся в лицо.
Привернувшийся к моменту фотокор из областной молодёжки всё постукивал меня скобкой указательного пальца в локоть, восторженно шептал:
– Дедулио на разговоре хороший. Любит поговорить… Ну и уважь, потолкуй ещё за жизнь, дай на последе ещё хоть разок щёлкнуть. Ничего подобного не снимал… Не улыбка – праздник! Так и просится в кадр! – и, припав на одно колено, отстраняясь верхом, всё щёлкал, щёлкал…
Старику поглянулось сниматься, и он, уловив, что заезжанам всякое словцо про тутошнее в интерес великий, помалу подтираясь, приподлизываясь, заискивая, порядка ради спросил нашего согласия на одну историю и тут же, разумеется, получив его, накатился повествовать про Байкалову дочку Ангару и про богатыря Енисея – одной этой легенды довольно, чтоб насниматься дуриком досхочу.
"Давным-давно жил в нашем крае могучий, седой богатырь Байкал. Не было во всей стране равного ему по силе и богатству.
Суровый он был старик. Как рассердится, так и пойдут горами волны, так и затрещат скалы. Много рек и речушек было у него на посылках.
Была у старика Байкала единственная дочь Ангара. Первой красавицей она слыла во всём мире. Очень любил её отец-старик. Но строг был отец к ней и держал её взаперти, в неведомых глубинах.
Не давал ей старик даже наверх показаться. Часто, часто тосковала красавица Ангара, думала о воле…
Прилетела раз на берег Байкала чайка с Енисея, села на один из утёсов и стала рассказывать о житье-бытье в привольных степях Енисея. Рассказывала она и о красавце Енисее, славном потомке Саяна.
Случайно подслушала этот разговор красавица Ангара и загрустила…
Ёще раз она услыхала о красавце Енисее от горных ручьёв и ещё более заскучала.
Решила наконец Ангара сама повидаться с Енисеем.
Но как вырваться из темницы, из крепких высоких стен дворца?
Взмолилась Ангара Богам и Богиням:
– О вы, тэнгэринские Боги,Хоть сжальтесь над пленной душой,Не будьте суровы и строгиКо мне, окруженной скалой.Поймите, что юность в могилуТолкает запретом Байкал…О, дайте мне смелость и силуРаскрыть эти стены из скал.Узнав о мыслях любимой дочери, Байкал запер её крепче и стал искать жениха из соседей – не хотелось отдавать дочь далеко.
Выбор старика Байкала остановился на богатом и смелом красавце Иркуте. Послал старик Байкал за Иркутом.
Узнала об этом Ангара и горько, горько заплакала. Взмолилась Ангара старику отцу, просила не отдавать за Иркута: не нравился он ей.
Но Байкал не слушал, еще глубже спрятал Ангару, а сверху хрустальным замком замкнул.
Взмолилась снова Ангара богам и богиням.
И решили ручейки и речки помочь ей. Стали они подмывать прибрежные скалы.
Близилась свадебная ночь. Крепко спал в эту ночь старик Байкал. Ангара взломала замки и вышла из темницы.
А ручейки все рыли и рыли. Старик всё ещё крепко спал… Но вот проход готов. Ангара с шумом вырывается из каменных стен и мчится к своему возлюбленному Енисею.
Вдруг проснулся старик Байкал – что-то недоброе увидел он во сне. Вскочил старик и испугался. Кругом шум, треск. Понял старик, что случилось. Рассвирепел. Выбежал из дворца, схватил с берега целый утёс и с проклятием пустил им в беглянку дочь.
Но поздно… Не попал. Ангара была уже далеко.
Этот камень так и лежит до сих пор на том месте, где прорвала утёсы Ангара. Это и есть Шаманский камень.
А Иркут тем временем запоздал в пути и заночевал в тридцати пяти верстах от Байкала. Вдруг наутро слышит вдалине шум, треск.
Смекнул Иркут в чём дело. Он ещё раньше знал об Енисее через птиц кедровок и хариусов скользких.
Решил Иркут перерезать путь беглянке. Вернулся немного обратно и стал пробивать скалы наперерыв Ангаре.
Но трудно было это. Медленно шел Иркут. Наконец скалы пробиты и Иркут быстро помчался по долине.
Однако поздно… Ангара отбежала уже дальше. Она уже приближалась к Енисею.
Так Ангара достигла Енисея.
А старик Байкал мечтает до сих пор догнать беглянку; и если Шаманский камень сдвинуть с места, Байкал выпрыгнет из берегов и настигнет свою дочь, затопив все пути своими водами”.
5
Где воля, там и дорога.
Середка всему делу корень.
Нашему ндраву не препятствуй:
за безобразия заплатим.
На площадке перед вокзальчиком уже начиналось построение.
Мы со Светланой спешили туда.
В сарае за ладным малорослым забором недовольно прогорланил петух.
Вследки за нами вышагивала с лыжами на плече плотная царь- деваха. Посочувствовала:
– Неосторожные уж эти перекати-поле… Не дали бедному пете поспать.
Убитые голоса впереди, потерянные голоса за спиной:
– Какой пластает снежище!
– Не под момент…
– Да-а, подлип жуткий…
– Видимость на нуле…
На построении я рядом со Светланой. Ещё того чище. Держу её лыжи, сундучок.
– Товарищ медицина, – подкатываюсь, – а пока вы с визитом вежливости пребывали в столовой, одну снегурочку ох и допекали зубы…
– Что ж не позвали?! – сине полыхнула Светлана глазищами. – Я ж вам на то и говорила, куда пошла!
До чего она переменчивая да нарывистая! Ещё мгновение назад была сама сватая кротость и на! Отчаянное недоумение, попрёк неотмолимый окаменели во взоре.
– Знаете… как-то не подумалось, – припоздало почувствовав свою вину, смято обронил я. – Извините.
– И не подумаю! – с вызовом, сухо бросила она вполголоса. – Будто от ваших извинений легче той девушке. Гляньте, нет ли её поблизости?
Выломился я по пояс из строя, перебрал ближних по левую руку, перебрал по правую.
– А знаете, не вижу… Да вы уж не убивайтесь. Возможность исправиться Бог подаст. У меня такое предчувствие, вагон ещё хлопот свалится сегодня на ваши хрупкие плечи. И потом, ничего ж страшного и не было у той де…
– Конечно, конечно! – отчуждённо перебила она. – Чужая боль с мармеладом.
– С мёдом! – взмыл я на дыбки. Нотаций я не терпел.
– В таком случае, – слабо, без силы почти она чуть качнула верх лыж к себе, как бы пробуя нехотя, крепко ли я держу, но и этой невольности вполне хватило, чтоб завёлся я окончательно. Я подтолкнул лыжи к ней, чему она в первое мгновенье удивилась, растерялась даже, однако скоро собрала себя и уже в следующее мгновенье вовсе без колебаний, со спокойным хладнокровием тянула лыжи к себе; я не сопротивлялся; напротив, услужливо протянул ей и сундучок, – в таком случае, – в зыбкой досаде, полуобидно повторила она, принимая свой скарб, – отдавайте мои игрушки. Я больше не играю с вами.
– А я с вами.
Опустелые зябкие руки тотчас налились тяжестью, сами собой с виноватой бережью потянулись к лыжам, к сундучку взять назад – узкая, высокая ладошка в пуховой варежке всплыла заградительным щитком. Не надо, не надо!
Прогромыхал, подгоняемый снежным вихрем, товарняк.
Голова колонны двинулась, помела через рельсы к берегу.
Берег какой-то хитроватый, со ско́льзом. Сверху снег, а под снегом наплески – ледяная корка, нагнанная с осени прибоем.
Первые падения, первые восторги…
У откоса все выстраиваются в одинарку, друг за дружкой, потихоньку переступают по мере того как медленно уходят, втаиваются в смоль ночи передние.
Им-то, ждунам, что? Им всем можно не спешить. Тропить, бить лыжню им будут другие. Только мне какой привар с той лыжни?
Как птенец из гнезда, вывалился я из цепи и рядом с нею, не дав ловкости ногам, кубарем скатился с возвышенки.
Под ногами Байкал…
Лёд тяжело засыпан, снегу не по колено ли.
Я оглядываюсь, но ничего не вижу кроме снега под собой, кроме снега сверху, кроме снега вокруг – ночной, слепой круговерти. И если б не весёлые голоса за спиной, подумалось бы, что стою где- нибудь в глухой степи.
Как человек, не лишенный некоторой обстоятельности, я постучал каблуком в очищенное от снега круглое оконце льда. Ничегошеньки, не ухнул. Держит!
Можно теперь спокойно и в путь.
Подправил рюкзак, одёрнул штормовку и, вежливо выждав, когда ходко тронется первый лыжник, изо всех рысей помёл рядом с ним, помёл по целику, до колен уваливаясь в высокий снег.
Слышу, загребаю, черпаю эту развезень ботинками.
На счастье, в кармане вчерашняя газета.
На бегу деру, жмакаю в катышки; сковыриваю со щиколоток набряклые снеговые дужки-вдавыши, тесно набиваю бумагой ботинки.
Без останову напихал в оба – ни на волос не отстал, не отлип от лыжника; мнём-давим снег, идём на ровнях, бровь в бровь.
Эге-ге-е!
Да теперь, как разделался я с экипировкой, так и рвёт обставить! Теперь чертоломить я гор-разд!
Не знаю, какая сточёртова сила корёжится, куражится во мне, мчит как оглашенного – на целый локоть выхлестнула вперёд!
Мне радостно бежать, радостно оттого, что у меня, безлыжного, вал валом валит за спиной лыжников да тёмная ещё толпа набита на берегу, как мурашей на кочке! – и счастливо-шальная мысль, что вот возьму да и заявлюсь на легкой ноге в Листвянку раньше всех них скопом взятых, хмелит, кружит голову: вот тот-то выворочу пасьянс!
Я подмигиваю приотставшему сопуну. Ну-ну, паренёк-огонёк! Парку!
Смертвил зубы мрачный гордец, наддал из крайней крайности, с большими трудами на капельку подобрался. Но всё одно хоть на ладошку какую, а первина за мной.
– Слабо, слабо-о… Огорчаете, вьюноша!
Улыбнулся я весёлой мысли про то, что первый промежуточный финиш сгрёб-таки я, переключился я, потаённо отдыхиваясь, на шаг вприбежку. Кинул малому ручкой:
– Слава чемпиону!
И, не убирая с него глаз, захлёбисто, анархически подрал песняка с торжества:
– А мороз печёт, а снежок сечёт,А верблюд идёт не спеша.Ни к чему метро и такси ничто —Для верблюда жизнь и так хор-ро-о-ш-ша-а-а!С застылым лицом прожёг ветрогон мимо, поворотил голову, основательно поставил подбородок на плечо.
– Ну что, порох подмок? – спросил он с ростягом, ехидно, исподтишка оскаляя, вымещая злость.
Ах ты!.. Будет ещё выставлять зубы! Да за таковский выходо́к…
В момент я снова подле него.
– Так что там с порохом, омулёвый твой нос? Намок, говоришь? А давай подсушим!
Протягиваю ему руку – он как-то рывком отжался, отшатнулся от меня и пошёл наяривать во всю ивановскую.
Тут и вовсе распалило меня. "Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри. Нечего поважать козлят брыкаться!"
– А хочешь, – шумнул ему в спину, – сейчас вертану?
Парень, не то удивленный, не то сраженный беспардонщиной моей, стал. Как в лёд вмёрз.
– Или я вам путь переступил? – спросил он корильным тоном и вместе с тем упало, смято.
– Вертану-у! – пёр я на рожон. – А спорим!
– С вами в спор идти? – В голосе у него качнулось недоумение. – А на что?
– Во-он до той торосины метров тридцать. Давай наперегонки. Обскачешь – назад, в Танхой, вертаюсь я. Обой…
– … обойдёте вы, – перехватил он, – взадпятки иду я. Так?
– Не иначе.
– А разь вы против, – схитроумничал он, – если большину возьмёт дружба?
Врастопырку держа обе палки в одной руке, он с улыбкой поднёс мне свободную руку.
Я пожал скорее так, из учтивости, открыто глядя парню в глаза.
Вроде маловато уже рассветилось, разбавилась вроде немного ночь. Не в полной ясности, но вижу: лицо это мне знакомо. Где, когда я его встречал? Постой, постой… Ну да, он будил! Смуглое, горделивое лицо, гортанный голос, помятые слова… Я и прими его на побудке за кавказца. Да, никак, поторопился.
– Вы не настоящий Нола-Нола?
Парень утверждающе кивнул.
– Местный, сибирских кровей. Маде ин тайга. А «нола-нола» из репертуара ереванца Шалико Авакяна… Соседушка по койке в общежитии. В нашем бамовском котле какое только варево не варится… Хоть географию страны по бамовцам изучай.
6
К чему охота, к тому и смысл.
В сердце нет окна.
Догоном, один за одним, мели лыжники, и в каждом был будто магнит, которым всхватывало меня, и рядом с каждым пробегал я какое-то пространство, большое, маленькое, а пробегал, и с каждым новым человеком бежал я всё медленней, бежал всё меньше – теряли людские магниты власть свою; с растущей, с закипающей смертной тревогой, с неизъяснимым отчаянием прибивало к мысли: всё, и на час не хватило пару, больше ты не бежок, не достанет воли угнаться, всё, испёкся; а ведь грешен, грешен уже только тем, что думал про себя так, ведь не знал я всего в самом себе, потому что, когда откуда ни возьмись выкланялась, выломилась из метельной, буранистой пучины Светлана, неведомая неповалимая сила будто подняла меня на миг над матёро кипящими снегами, и я снова на всех парусах полетел подле света молодых горячих глаз, подле света загадочного лица; бежал я и минуту, и пять, и десять и не было никогда так светло, так чисто на душе, как сейчас, и никогда не бегалось мне легче, способней, быстрей, и не было мне музыки сладостней скрипа её лыж.
Я заметил, с нею не было сундучка.
Всё во мне замерло.

– А где же ваше… приданое… сундучок? – потерянно пробормотал я.
– Сундучок в надёжных руках. – В синий прищур глаз толкнулись досада, укор.
Во мне что-то упало.
– А разве эти, – потянул к ней руки кверх ладонями, – не надёжны?
Она остановилась, тихо-бережно отвела руки мои; ничего не сказав, отстранённо глядя перед собой, пошла молча, пошла медленней против того как надо бы, потому что её обминули по целику и один, и второй, и третий из тех, кто теснился, кто толокся у неё за спиной на лыжне; обходивший четвертый ненароком задел её невозможно широким рюкзаком, вернул в действительность. Она оглянулась, вскрикнула:
– Пробка! Из-за меня… Извините… До привала!
Резкий взмах палок – толчок…
Сильный взмах крыльев – прыжок.
Забитая снегом, взявшимся уже лёд-плёнкой, она походила на белую лебедицу, бежавшую всё стремительней на взлёте. В какой- то миг мне привиделось, что, оттолкнувшись, она поднялась над снегами, полетела, но какое-то доброе повеление тотчас воротило её в зыбкую, вразнохлёст мечущуюся серую мглу.
Она пришла из метели, снова уходила в метель, и каждый взмах палок множил, набавлял пропасть между нами, и на этом стонущем между нами пространстве беда всё плотней задёргивала завесу из колючей, секущей глаза, кутерьмы.
Я бежал… Зачем я бежал?.. Боялся не видеть её?..
Не знаю, не знаю…
Стало до одури парко.
Расстегнул штормовку враспашку, выдернул из штанов свитера, которых прело на мне, как рубашек на луке; изнанкой шапки промокнул с лица сыпкий пот.
Враз посвежело.
Свежесть прибавила, нарастила крепости, силы в ногах, отчего я пошёл на скору руку, быстрей и с души пал камень: смутно угадываемая наклонённая вперёд фигурка проступила чуть ясней, чётче!
"Догоню! Вот только содрать с себя хоть один свитер…"
Во всё то переломное время, покуда стягивал, покуда вминал, впихивал зелёный ком свитера в рюкзак, я не давал уйти из виду маячившей за снежными взвеями изогнутой тонкой фигурке.
На разъединый миг выпустил, когда завязывал рюкзак, снова пустил вдогон пристальный глаз – фигурка вовсе пропала, растаяла, растворилась в свистящем мраке.
Недостало у меня сил ступить и шагу, со всего роста повалился я лицом в снег.
7
Дай душе волю – захочет и боле.
Кулик да гагара – два сапога пара.
– Па-а-а-адъё-о-ом!.. Вставальная пора!..
Поворачиваю голову – Генка.
– Что случилось? – напряжённо спросил он.
С унылым видом уставился на Генку:
– С кем?
Я стараюсь быть безразличным, будто речь шла о ком-то постороннем.
Хмыкнул в недоумении он.
Потом глянул на часы, плетьми сронил руки – хлопнулся к ногам рюкзачище.
– Привал? – заинтересовался я.
– Как же… Со сном и сновидениями!
Он раскопал в снегу ямку ногой, махоньким топорком ловко выломил сколок льда, сунул в склянку, в другую с коротким противным скрёбом об лёд зачерпнул снегу.
"А пожадистый… Загодя, что ли, копит на обеденный чай? Посерёд Байкала не будет ему этого милого добра…"
Как ни в чём не бывало оттянул я ворота свитеров – пускай грудь подышит! – и живым шагом дальше.
Тут же молча обошёл меня Генка, да ненадолго.
Минут через десять вижу картинку: Генка мой на коленях, голыми руками веет снег у Светланиных ног.
Светлана растерянно пожаловалась мне:
– Посеяла штучку… крепление… Не держит…
– Чем можем – поможем!
Я вроде век того и ждал. Плюх на корточки и ну ощупкой лихорадочно перебирать-охлопывать снег поблизку лыжни.
"Да налапай я ту штучку… да, пардонко, не отдай… Да тогда не буду я волочься один по образу пешего хождения!"
Генка словно угадал мою пасквильную затею. Покосился, угнул голову. Не боднуть ли загорелся?
– Вы бы скользили, скользили себе спокойнушко…
– У девушки беда, – напираю на человеколюбие. – До спокойствия ли в скольжении?
– А вы скользите. А то хвост уже подтягивается. Точка. Абзац.
Я посмотрел назад.
Совсем близко вразнопляс колыхалась жиденькая цепочка. Но шла напористо.
Это и всполошило меня.
Я панически уставился Генке под руки.
"А хоть бы ты, дурёнка, не нашлась! А хоть…"
Тяжёлые глухие шаги порвали мои посулы.
Мы с Генкой оглянулись.
Вдоль лыжни трое тащились в обрат с грехом пополам.
Генка удивленно присвистнул.
– А это что ещё за трио бандуристов? И далече правитесь?
Первой брела девушка в красном.
– Светлана, – сказал я, – эта Красная Шапочка тире Тюбетеечка, – движением бровей показал на девушку, – к вам. Именно про неё говорил я вам на построении.
Светлана искренне, светло обрадовалась случаю помочь. Стремительно пустила шаги навстречу девушке, взяла её за руку.
– И сейчас беспокоят зубы? Да?.. А где наш фурацилинчик? – Светлана с такой магической ласковостью посмотрела на Генкин рюкзак, будто оттуда и впрямь мог – должен был! – выскочить этот самый Фурацилинчиков. – Беспокоят? Да?
– Не-е… Зубы что… – пониклым голосом отвечала девушка. – Я лыжу сломала, – и, виноватясь, важно выставила обломки. Будто это были осколки самого тунгусского метеорита.
– С какой же радости несёте? На сувенир? – выразил я предположение.
– Да ну-у… Чего ж сорить средь Байкала?
– Вот за такой ответ пять с плюсом! – ударил в ладоши Генка.
Тут с нами поравнялся дюжий парень с продолговастым улыбчивым лицом. Бросил сидевшему на пятках Генке:
– Своими усами, потолкунчик, обольщаешь красавицу! Ты на опасном пути.
– Разговорчики не в струю, Боря! – нарочитым баском шумнул вслед Генка. Видно, они близкие, тёмные приятели, дружно, в одно сердце живут.
Я спросил Генку, что такое потолкунчик.
Оказывается, это от слова толкун… толкать, подталкивать. Толкуном зовут замыкающего колонну. Сегодня замыкал Генка.
Растолковал всё это Генка и кивнул мужчине.
– А у вас что?
Маленький, угрюмый, как букан, худой мужичонка с двумя парами лыж под мышками, с горой-рюкзаком, до плотности не закрытого (над едва внахлёстку стягивавшими верх шнурками зловещим вопросительным крюком пламенела красная зонтичная ручка), этот мужичонка, невесть как умудрялся ещё и придерживать за круглый локоть толстуху коротышку предбальзаковской поры, чистосердечно повинился: