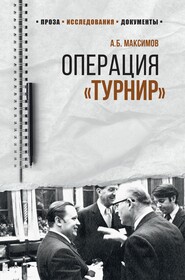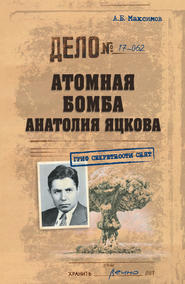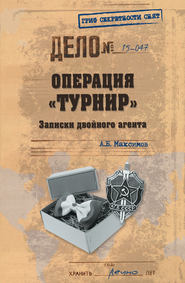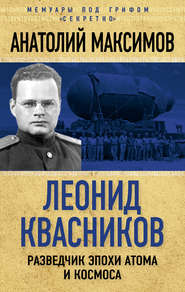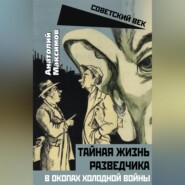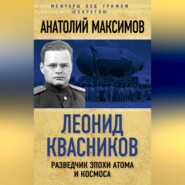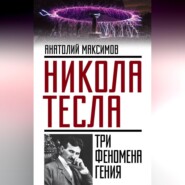По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Атлантида, унесенная временем
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За всем этим – красота черепичных крыш традиционного красного цвета на белоснежных домах, взбирающихся по пологому склону кольца окружавших городок гор.
Издалека это поселение городом назвать было трудновато – его улицы от центра взбирались круто вверх, и окраины его хорошо просматривались. Городок утопал в цветущих садах и окружавших его ровными рядах виноградниками. А дальше, на склонах пологих гор – типичный скромный пейзаж блекло-зеленых холмов, сходных с нашими феодосийскими или судакскими.
Чуть выше причала возвышалась белоснежная церковь с чуть выпуклым куполом из той же красной черепицы. Видимо, там была главная площадь городка, и от нее во все стороны расходились улочки.
Встав на якорь, мы затаили дыхание… Здесь двести лет назад решалась судьба выхода России к Черному морю. Здесь погибали наши моряки и, возможно, их могилы можно будет найти на берегу. Нам очень хотелось встретить здесь следы памяти о делах болгар и русских – это потаенно проявлялось у каждого из нас без слов в надежде, что толика добра ко всему русскому достанется и нам, беглецам из России.
На яхте мы имели четыре флага: советский, военно-морской советского времени, Андреевский и российский – трехцветный. И еще загодя решили идти под российским флагом – все же это был знак принадлежности к сегодняшней стране, нашей Родине. Мы перенесли флаг с кормового флагштока на верх мачты, под самый топ.
Входили под одним кливером – так было легче маневрировать. Когда вышли на траверз обоих мысов, кливер приспустили наполовину. Ветра хватало, и нас по спокойной волне плавно понесло к середине бухты.
Влад – он, естественно, был на руле, – классически построил треугольник, в центре которого оказалось наше суденышко в момент отдачи якоря. Без лишних вопросов мне стал понятен его замысел: треугольник – это маяк на толстом мысу, тонкий мыс и белоснежная церковь на берегу…
Еще проходя в «ворота» между двух мысов, мы обратили внимание на людей у маяка, махавших нам, вернее всего, с приветствием. В бинокль за два километра от них было видна троица – двое детей лет десяти- двенадцати и старый человек с копной седых волос. Мы ответили тем же и видели, как девчушка сбегала в помещение маяка и принесла… подзорную трубу. Теперь мы как бы сблизились: они видели наши лица, а мы – их.
На тонком мысу никого не было. Там видны был развалины крепостных стен. Видимо, в давние времена именно здесь стояла турецкая береговая батарея, обстреливавшая наши корабли в том судьбоносном для России морском бою. Стояла тишина, нарушаемая лишь плеском волны у режущего гладь воды носа яхты.
Неожиданно мы услышали колокольный звон, доносимый до нас с берега мягкими порывами ветра. Не тревожный, а радостный, приглушенный расстоянием звон переливался тонкими голосами малых колоколов. На часах было еще далеко до полудня! Что бы это означало?
– Ребята, а ведь это нас встречают! – пронзенный неожиданной догадкой, воскликнул я. – Пусть меня проглотит кит, если это не так… Последними словами я здорово озадачил моих спутников, но и догадка озадачила меня. Во мне заговорил голос жизненного опыта общения с сотнями людей, причем разных национальностей и сословий в десятках стран мира – от коммерсанта до миллионера, от учителя до историка, от рабочего до фермера… И среди них были и болгары.
…Когда я работал в Монреале, живущие в Канаде болгарские сотрудники целыми семьями приходили к нам в генконсульство на просмотры фильмов и детские утренники. Они посещали нашу библиотеку, а иногда просто заходили посидеть у нас в фойе.
Их доброе отношение к нам, русским, носило искренний характер. Наш завхоз и его жена, мастер поварского искусства, ибо она была бывшим директором кулинарного техникума, всегда угощали гостей чаем с испеченными ею домашними булочками. Другие представители соцстран так не поступали, а некоторые даже сторонились общения с нашим генконсульством, не посещая приемы в традиционные праздники. В последующем московские встречи с «моим» телевизионщиком только усилило доброе чувство к болгарам…
Яхта уже стояла на якоре и разворачивалась носом к дувшему с берега ветерку. Трос от якоря хорошо просматривался в глубине сине-лазурной воды – так чиста и прозрачна она была.
Было видно, что к центру пристани у приземистого здания с государственным сине-бело-зеленым флагом неторопливо сходились люди. От причала отошла моторка с тремя людьми.
В бинокль я напряженно всматривался, с тревогой пытаясь определить по лицам и одежде, – что за люди направлялись к нам? Постукивая подвесным мотором средней мощности, катерок близко подошел к яхте. Мы стояли у мачты, одетые опрятно и по-морскому – в свитерах, куртках, простых брюках и кедах. Радость на наших лицах от чувства прихода к берегу скрывала наше тревожное ожидание. А в моторке все были обращены к нам с открытой, широкой и радушной улыбкой.
Чуть покачиваясь, моторка и яхта сближались. Перед нами стояли в полный рост три продубленных солеными ветрами и жарким солнцем явных моряка, вернее всего, рыбаки. Возраст – от 25 до 50–60. Эти крепко скроенные люди вызывали симпатию своим видом, и мы не ошиблись – они оказались чрезмерно добры к нам и нашим трудностям.
– Привет вам, добрые люди, – протягивая к нам руки, воскликнул старший из них.
Ему вторили двое других.
– Братья наши, – говорил среднего возраста болгарин, и ему вслед – другой, из молодых, – гости наши…
В этот момент никто из нас не обратил внимания, что они говорили только по-русски. Позднее я про себя отметил, что весьма чистая русская речь, столь иногда трудная для наших республиканских лидеров, вообще была свойственна болгарам.
Старший представился, протянув руку через борт моторки и яхты:
– Дино Денев, председатель рыбной артели, учился в Союзе… Бывал у вас не раз… Это мои друзья – Христо Попов и Коля Златев… Бывали в России…
Понимая, что все имена запомнить вот так сразу трудновато, он поправился и весло назвал:
– Я – Дино-рыбак, Христо – глава управы, а Коля— капитан… Назвали и мы себя: отставной военный моряк Максим Бодров, Влад Костров, начинающий капитан, и Ольга Самарова, библиотекарь. В это время мы уже были в моторке.
Дино похлопывал меня по спине, явно поощряя к разговору и стремясь помочь нам всем преодолеть смущение первых минут знакомства. Начал он первым:
– Давно в море?
– Вторые сутки на исходе… Вышли от Крыма, из Судака… В ночь… Бежали, – коротко произнес я.
Дино перестал улыбаться и переспросил:
– Бежали? Два дня назад? Но тогда был сильнейший шторм?!
– Дино, – похлопал я его по руке, – нужно было… Убили бы нас… Выбора не было: или отдать концы на берегу, или рискнуть и уйти морем…
И немного помолчав, видя, что к разговору прислушиваются все сидящие в моторке, закончил, кивнув на Ольгу:
– Нужно было спасать жизни этих молодых ребят… И свою…
Вот так, думая каждый свою думу, мы молча подходили к пристани. И только несколько нервное учащенное похлопывание Дино по моей спине говорило о его волнении в связи с услышанным.
Мы – у причала, и десятки рук бережно перенесли нас на его твердь. Но когда мы распрямились, десятки рук снова потянулись к нам – земля под нами качнулась, как палуба нашей яхты. Несколько шагов, и мы уже твердо стоим на своих ногах, правда, широко расставив их. И глядя на нашу неуклюжесть после стольких часов пребывания на волнах, все весело рассмеялись – они нас приветствовали, они нам были рады, они нас приняли.
А уже как были рады мы!
«Случайная семерка»
У камня русской славе
Нам показалось, что на пристани собрался весь народ городка. На лицах – открытая приветливость и добрый интерес. Вернее всего, и как к путешественникам, и как к людям «оттуда», из тревожной России.
Дино коротко представил нас, называя имена без фамилий. Мы объяснили, что попали во вчерашний шторм и зашли в бухту отдохнуть и поправить такелаж яхты. Жители оказались понятливыми и оставили нас в покое, выразив надежду встретиться снова.
Вместе с тремя новыми друзьями мы вошли в здание мэрии и оказались в обширном кабинете главы городка Христо. Присели у низкого резного столика, чем-то напомнившего мне тот, что я видел в семье советского послевоенного эмигранта из Молдавии в Канаде. И в том, и в этом столике проглядывались турецкие рисунки бытового орнамента. Через минуту появился медный, кованый поднос с набором крохотных чашечек и каждому – по кофеварке с густым духом напитка, столь традиционного для южан Причерноморья.
– Друг Максим, – тронув мою руку, обратился Дино ко мне, – как я понял, разговор будет не быстрый… Вам нужно прийти в себя… Отдохнуть… Может быть, начнем с доброй русской традиции – бани? Но нашей – болгарской?
Мы согласно закивали, а Дино обратился к Коле и попросил его подготовить баню и две комнаты для нас.
– Ты, Коля, скажи людям в гостином дворе, чтобы самые лучшие приготовили – одну для девушки, и одну для Максима и Влада…
А пока мы с удовольствием отпили кофе, который оказался столь густым, что наш русского размаха глоток чуть не опустошил чашечку до дна. Ольга и Влад поперхнулись густотой, а я, имея опыт употребления кофе, приготовленного восточным способом, лишь пригубил его.
Дело в том, что настоящий, как говорят у нас, турецкий кофе, – это всего граммов 25–30 жидкости, а остальное в чашке – густота. Конечно, можно слить всю жидкую часть, как это делается в кофеварке эспрессо. Но это уже не кофе, по крайней мере, для знатоков. Улыбки наших гостеприимных хозяев не смутили нас. И мы вкусили кофе до конца, подливая себе по 10–15 граммов из кофейников.
Христо сказал, что сейчас будет только кофе, а все остальное – потом, после бани.
Нас провели во двор, который выглядел подворьем – мощеный крупными грубыми плитами по периметру, он представлял собой ряд навесов с коновязями и кормушками для лошадей (и как позднее мы узнали – и для ослов). А сопровождавший нас Коля пояснил, что в городе традиционная рабочая сила – гужевая.
– На наших узких улочках и виноградном пригороде лошадь – незаменимая вещь… Если с рыбой – все ясно – она на причале, рыбзавод рядом и до него на автокаре рукой подать, тоо с виноградом сложнее… По склонам ни на авто, ни на колесном тракторе не пройдешь… А нужно добираться до дальних горных углов. Вот и держим лошадей. И не только для этих целей… Привычка! Как велосипед – для домашних дел, так лошади – для рабочих…
У коновязи стояло несколько лошадей, которые с удовольствием жевали сено и свежую траву, заботливо подброшенную им. Мы пересекли двор и нырнули под низкую бревенчатую арку. Пригляделись в полумраке, увидели приоткрытую дверь, из которой чувствовался теплый дух.
Издалека это поселение городом назвать было трудновато – его улицы от центра взбирались круто вверх, и окраины его хорошо просматривались. Городок утопал в цветущих садах и окружавших его ровными рядах виноградниками. А дальше, на склонах пологих гор – типичный скромный пейзаж блекло-зеленых холмов, сходных с нашими феодосийскими или судакскими.
Чуть выше причала возвышалась белоснежная церковь с чуть выпуклым куполом из той же красной черепицы. Видимо, там была главная площадь городка, и от нее во все стороны расходились улочки.
Встав на якорь, мы затаили дыхание… Здесь двести лет назад решалась судьба выхода России к Черному морю. Здесь погибали наши моряки и, возможно, их могилы можно будет найти на берегу. Нам очень хотелось встретить здесь следы памяти о делах болгар и русских – это потаенно проявлялось у каждого из нас без слов в надежде, что толика добра ко всему русскому достанется и нам, беглецам из России.
На яхте мы имели четыре флага: советский, военно-морской советского времени, Андреевский и российский – трехцветный. И еще загодя решили идти под российским флагом – все же это был знак принадлежности к сегодняшней стране, нашей Родине. Мы перенесли флаг с кормового флагштока на верх мачты, под самый топ.
Входили под одним кливером – так было легче маневрировать. Когда вышли на траверз обоих мысов, кливер приспустили наполовину. Ветра хватало, и нас по спокойной волне плавно понесло к середине бухты.
Влад – он, естественно, был на руле, – классически построил треугольник, в центре которого оказалось наше суденышко в момент отдачи якоря. Без лишних вопросов мне стал понятен его замысел: треугольник – это маяк на толстом мысу, тонкий мыс и белоснежная церковь на берегу…
Еще проходя в «ворота» между двух мысов, мы обратили внимание на людей у маяка, махавших нам, вернее всего, с приветствием. В бинокль за два километра от них было видна троица – двое детей лет десяти- двенадцати и старый человек с копной седых волос. Мы ответили тем же и видели, как девчушка сбегала в помещение маяка и принесла… подзорную трубу. Теперь мы как бы сблизились: они видели наши лица, а мы – их.
На тонком мысу никого не было. Там видны был развалины крепостных стен. Видимо, в давние времена именно здесь стояла турецкая береговая батарея, обстреливавшая наши корабли в том судьбоносном для России морском бою. Стояла тишина, нарушаемая лишь плеском волны у режущего гладь воды носа яхты.
Неожиданно мы услышали колокольный звон, доносимый до нас с берега мягкими порывами ветра. Не тревожный, а радостный, приглушенный расстоянием звон переливался тонкими голосами малых колоколов. На часах было еще далеко до полудня! Что бы это означало?
– Ребята, а ведь это нас встречают! – пронзенный неожиданной догадкой, воскликнул я. – Пусть меня проглотит кит, если это не так… Последними словами я здорово озадачил моих спутников, но и догадка озадачила меня. Во мне заговорил голос жизненного опыта общения с сотнями людей, причем разных национальностей и сословий в десятках стран мира – от коммерсанта до миллионера, от учителя до историка, от рабочего до фермера… И среди них были и болгары.
…Когда я работал в Монреале, живущие в Канаде болгарские сотрудники целыми семьями приходили к нам в генконсульство на просмотры фильмов и детские утренники. Они посещали нашу библиотеку, а иногда просто заходили посидеть у нас в фойе.
Их доброе отношение к нам, русским, носило искренний характер. Наш завхоз и его жена, мастер поварского искусства, ибо она была бывшим директором кулинарного техникума, всегда угощали гостей чаем с испеченными ею домашними булочками. Другие представители соцстран так не поступали, а некоторые даже сторонились общения с нашим генконсульством, не посещая приемы в традиционные праздники. В последующем московские встречи с «моим» телевизионщиком только усилило доброе чувство к болгарам…
Яхта уже стояла на якоре и разворачивалась носом к дувшему с берега ветерку. Трос от якоря хорошо просматривался в глубине сине-лазурной воды – так чиста и прозрачна она была.
Было видно, что к центру пристани у приземистого здания с государственным сине-бело-зеленым флагом неторопливо сходились люди. От причала отошла моторка с тремя людьми.
В бинокль я напряженно всматривался, с тревогой пытаясь определить по лицам и одежде, – что за люди направлялись к нам? Постукивая подвесным мотором средней мощности, катерок близко подошел к яхте. Мы стояли у мачты, одетые опрятно и по-морскому – в свитерах, куртках, простых брюках и кедах. Радость на наших лицах от чувства прихода к берегу скрывала наше тревожное ожидание. А в моторке все были обращены к нам с открытой, широкой и радушной улыбкой.
Чуть покачиваясь, моторка и яхта сближались. Перед нами стояли в полный рост три продубленных солеными ветрами и жарким солнцем явных моряка, вернее всего, рыбаки. Возраст – от 25 до 50–60. Эти крепко скроенные люди вызывали симпатию своим видом, и мы не ошиблись – они оказались чрезмерно добры к нам и нашим трудностям.
– Привет вам, добрые люди, – протягивая к нам руки, воскликнул старший из них.
Ему вторили двое других.
– Братья наши, – говорил среднего возраста болгарин, и ему вслед – другой, из молодых, – гости наши…
В этот момент никто из нас не обратил внимания, что они говорили только по-русски. Позднее я про себя отметил, что весьма чистая русская речь, столь иногда трудная для наших республиканских лидеров, вообще была свойственна болгарам.
Старший представился, протянув руку через борт моторки и яхты:
– Дино Денев, председатель рыбной артели, учился в Союзе… Бывал у вас не раз… Это мои друзья – Христо Попов и Коля Златев… Бывали в России…
Понимая, что все имена запомнить вот так сразу трудновато, он поправился и весло назвал:
– Я – Дино-рыбак, Христо – глава управы, а Коля— капитан… Назвали и мы себя: отставной военный моряк Максим Бодров, Влад Костров, начинающий капитан, и Ольга Самарова, библиотекарь. В это время мы уже были в моторке.
Дино похлопывал меня по спине, явно поощряя к разговору и стремясь помочь нам всем преодолеть смущение первых минут знакомства. Начал он первым:
– Давно в море?
– Вторые сутки на исходе… Вышли от Крыма, из Судака… В ночь… Бежали, – коротко произнес я.
Дино перестал улыбаться и переспросил:
– Бежали? Два дня назад? Но тогда был сильнейший шторм?!
– Дино, – похлопал я его по руке, – нужно было… Убили бы нас… Выбора не было: или отдать концы на берегу, или рискнуть и уйти морем…
И немного помолчав, видя, что к разговору прислушиваются все сидящие в моторке, закончил, кивнув на Ольгу:
– Нужно было спасать жизни этих молодых ребят… И свою…
Вот так, думая каждый свою думу, мы молча подходили к пристани. И только несколько нервное учащенное похлопывание Дино по моей спине говорило о его волнении в связи с услышанным.
Мы – у причала, и десятки рук бережно перенесли нас на его твердь. Но когда мы распрямились, десятки рук снова потянулись к нам – земля под нами качнулась, как палуба нашей яхты. Несколько шагов, и мы уже твердо стоим на своих ногах, правда, широко расставив их. И глядя на нашу неуклюжесть после стольких часов пребывания на волнах, все весело рассмеялись – они нас приветствовали, они нам были рады, они нас приняли.
А уже как были рады мы!
«Случайная семерка»
У камня русской славе
Нам показалось, что на пристани собрался весь народ городка. На лицах – открытая приветливость и добрый интерес. Вернее всего, и как к путешественникам, и как к людям «оттуда», из тревожной России.
Дино коротко представил нас, называя имена без фамилий. Мы объяснили, что попали во вчерашний шторм и зашли в бухту отдохнуть и поправить такелаж яхты. Жители оказались понятливыми и оставили нас в покое, выразив надежду встретиться снова.
Вместе с тремя новыми друзьями мы вошли в здание мэрии и оказались в обширном кабинете главы городка Христо. Присели у низкого резного столика, чем-то напомнившего мне тот, что я видел в семье советского послевоенного эмигранта из Молдавии в Канаде. И в том, и в этом столике проглядывались турецкие рисунки бытового орнамента. Через минуту появился медный, кованый поднос с набором крохотных чашечек и каждому – по кофеварке с густым духом напитка, столь традиционного для южан Причерноморья.
– Друг Максим, – тронув мою руку, обратился Дино ко мне, – как я понял, разговор будет не быстрый… Вам нужно прийти в себя… Отдохнуть… Может быть, начнем с доброй русской традиции – бани? Но нашей – болгарской?
Мы согласно закивали, а Дино обратился к Коле и попросил его подготовить баню и две комнаты для нас.
– Ты, Коля, скажи людям в гостином дворе, чтобы самые лучшие приготовили – одну для девушки, и одну для Максима и Влада…
А пока мы с удовольствием отпили кофе, который оказался столь густым, что наш русского размаха глоток чуть не опустошил чашечку до дна. Ольга и Влад поперхнулись густотой, а я, имея опыт употребления кофе, приготовленного восточным способом, лишь пригубил его.
Дело в том, что настоящий, как говорят у нас, турецкий кофе, – это всего граммов 25–30 жидкости, а остальное в чашке – густота. Конечно, можно слить всю жидкую часть, как это делается в кофеварке эспрессо. Но это уже не кофе, по крайней мере, для знатоков. Улыбки наших гостеприимных хозяев не смутили нас. И мы вкусили кофе до конца, подливая себе по 10–15 граммов из кофейников.
Христо сказал, что сейчас будет только кофе, а все остальное – потом, после бани.
Нас провели во двор, который выглядел подворьем – мощеный крупными грубыми плитами по периметру, он представлял собой ряд навесов с коновязями и кормушками для лошадей (и как позднее мы узнали – и для ослов). А сопровождавший нас Коля пояснил, что в городе традиционная рабочая сила – гужевая.
– На наших узких улочках и виноградном пригороде лошадь – незаменимая вещь… Если с рыбой – все ясно – она на причале, рыбзавод рядом и до него на автокаре рукой подать, тоо с виноградом сложнее… По склонам ни на авто, ни на колесном тракторе не пройдешь… А нужно добираться до дальних горных углов. Вот и держим лошадей. И не только для этих целей… Привычка! Как велосипед – для домашних дел, так лошади – для рабочих…
У коновязи стояло несколько лошадей, которые с удовольствием жевали сено и свежую траву, заботливо подброшенную им. Мы пересекли двор и нырнули под низкую бревенчатую арку. Пригляделись в полумраке, увидели приоткрытую дверь, из которой чувствовался теплый дух.