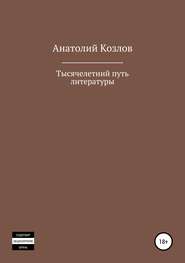По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поезд до станции Дно
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Поди сюда, сынок, – позвал его ласково, но твёрдо отец Маркелл. – Становись-ко рядом. Я тебя исповедую.
Становись, становись, ничего от чистосердечного покаяния твоя офицерская честь не пострадает, только чище станет. А солдатушки впотьмах не увидят, так что достоинство своё не уронишь.
Дашкевич скептически ухмыльнулся, однако к Маркеллу подошёл, на колени встал. И как только тот накрыл его епитрахилью и прочитал: – Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене; но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Се и икона Его пред нами; аз же точию свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним вся, елика речеши мне; аще ли что скрыеши от мене, сугуб грех имаши. Внемли убо; понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отъидеши, – тут штабс-капитана прорвало, словно гнойник нарывавший лопнул. Он говорил долго и горячо, вспомнив даже то, что уже считал окончательно забытым: как трое суток играл в преферанс, как ударил по лицу, а потом чуть не пристрелил на дуэли поручика Шаробурского за то, что тот пересказывал сплетни о царской семье, вычитанные в какой-то грязной газетёнке. Как два дня был в запое, узнав, что Россия объявила войну Германии, и как пьяный чуть не пристрелил назойливую проститутку, тащившуюся за ним по пятам два квартала, когда он вышел освежиться. О том, как осуждал начальство, как смеялся над полковым священником и ещё многое другое…
– Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Александр, вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властию Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, – прочитал над штабс-капитаном отец Маркелл. – Целуй крест и Евангелие… – Дашкевич поцеловал крест, Евангелие и припал губами к руке священника. Отец Маркелл почувствовал, что лицо его мокро от слёз. – Ступай с Богом, всё будет у тебя хорошо… завтра.
Дашкевич быстро поднялся и ушёл в темноту, на ходу вынимая платок и отирая лицо, не заметив, как следом за ним к отцу Маркеллу потянулись от костра солдаты…
К середине следующего дня, когда после продолжительного и изнуряющего марша в районе Танненберга – в тех местах, где пятьсот лет назад Тевтонский орден был сокрушён войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, совсем ополоумевшие солдаты армии Самсонова вышли большой колонной из лесу на открытую местность, без предварительной разведки, без всякого прикрытия и попали под шквальный пулемётный и артиллерийский огонь. С правого фланга – откуда ждали появление армии Ранненкампфа, тоже появился неприятель. Те, которые не были убиты в первые минуты боя, находясь на линии огня противника, цепляли к штыкам белые платки и сдавались в плен, совершенно не находя никакой возможности и сил к сопротивлению. В том состоянии, в каком они находились после столь длительного и изнурительного похода, смерть воспринималась как избавление. И если кто-то до сих пор оставался жив, то – как досадное недоразумение – следовала сдача в плен.
Штабс-капитан Дашкевич, шедший далеко от головной части колонны, успел собрать вокруг знаменосца своего полка около двух рот. Тут же оказался и отец Маркелл. Совершенно небезосновательно предполагая, что противник окружил армию, Дашкевич, в числе других командиров, повёл свой отряд на прорыв. Через несколько километров марша по непролазным, поросшим кустарником болотистым лесным зарослям впереди вдруг раздались выстрелы и громкий гортанный крик:
– Русс, сдавайс! Ви ест окрюшён! – возникло короткое замешательство.
– А … не хочешь! – зло выкрикнул в ответ штабс-капитан Дашкевич и тут же схватился за левое плечо. Под его рукой на рукаве мундира расплылось красное пятно. Он устало опустился на траву и стал доставать портсигар. Солдаты недоуменно уставились на него, ожидая команды. И тут к знаменосцу подскочил отец Маркелл .
– Ребятушки! – крикнул он, – таким сильным и звонким голосом, что солдаты, стоявшие вокруг, откликнулись на его призыв, как на команду офицера. – Супостат преградил нам дорогу, а мы его в штыки! Пошли, ребята, с Богом, урр-а-а! И он, подняв высоко руку с крестом, пошёл вместе со знаменосцем вперёд. Когда Дашкевич нагнал их, отец Маркелл ему крикнул: – Ты, сынок, позади шагай, смотри, чтобы кто не отстал, подгоняй их…
Дашкевич шёл сзади, размахивая и угрожая револьвером, подгоняя солдат, отстреливаясь и совершенно не думая ни о смертельной опасности, ни о том, где теперь может быть противник. Пуля, угодившая ему в руку, только задела мышцу, и теперь кровь свернулась и присохла на ране, пропитав мундир и образовав корку. Он расстрелял все патроны в выбегавших и стреляющих из кустов немцев, сунул револьвер в кобуру и, достав из кармана девятимиллиметровый браунинг, палил из него, пока не выпустил две последние обоймы. Штабс-капитан вынул из ножен шашку (тогда ещё офицеры носили длинные неуклюжие шашки как знак офицерского отличия), и, когда на него наскочил немецкий гауптман, он мгновенно, двумя страшными ударами, изрубил его, забрызгав кровью мундир и щёку, вначале отрубив кисть, сжимавшую пистолет, который почему-то не выстрелил: то ли дал осечку, то ли закончились патроны; а вторым ударом наискось разрубив ключицу. Бежавшие за гауптманом два немецких солдата, взглянув в лицо Дашкевича, бросились назад, один – выронив винтовку, а второй – обернувшись и выстрелив не целясь, послал пулю в верхушки деревьев.
Так они прошли километров десять, то и дело увязая в болотах, иной раз проваливаясь по пояс и помогая друг другу выбраться на твёрдую землю, обходя небольшие озера и перебираясь вброд по воде, пока шум погони и стрельба не остались в стороне. В болотистом лесу немецкие солдаты, егеря, шуцманы и добровольцы из местного населения с охотничьими ружьями продолжали гоняться за русскими солдатами и добивать их, как зайцев. И, видимо, противник не рассчитывал, что кто-то из русских сумеет вырваться из «мешка».
Дашкевич собрал вымокших до нитки, оборванных людей возле знаменосца, здоровенного парня из Уфы, который дошёл невредимым, и помимо знамени, ещё нёс какой-то груз на левом плече. Оказалось, что потерь почти нет, есть лишь раненые, но способные самостоятельно передвигаться. Не веря такому счастью, Дашкевич почти весело, чтоб взбодрить свою команду, спросил:
– А где поп наш, отец Маркелл, он же впереди шагал?
– Здесь он, – сиплым басом ответил знаменосец, – вот он. – И он осторожно снял с плеча безжизненное тело отца Маркелла, которое он с лёгкостью, почти не устав, протащил на плече. – Пулей.., – сказал знаменосец, – прямо в сердце. – Он стянул фуражку. – Почти вышли уже…
Дашкевич тоже обнажил голову.
– Нести с собой, будем хоронить со всеми почестями, как героя, – приказал он.
Избиение армии Самсонова продолжалось три дня, после этого началась массовая сдача в плен русских солдат – измученных, голодных, лишённых сил и средств к сопротивлению…
Неудовлетворительное руководство Северо-Западным фронтом под командованием генерала Жилинского, несогласованность действий 1-й и 2-й армий привели к гибели 30 тысяч и пленению более 100 тысяч солдат и отходу русских частей в Восточной Пруссии. Погиб и генерал Самсонов – есть свидетельства, что он покончил с собой, застрелившись в лесу.
Эти события принято признавать разгромом армии Самсонова, а Восточно-Прусскую операцию поражением русских войск. Для оправдания гибели десятков тысяч русских солдат и нескольких тысяч офицеров в качестве веского довода приводят то, что они пожертвовали свои жизни для спасения Франции. Действительно, немцы вынуждены были перебросить из Франции на русский фронт 2 армейских корпуса и 1 кавалерийскую дивизию, что обеспечило победу французов в битве на Марне и спасло Париж от сдачи немцам.
Находившаяся всего в пятидесяти верстах от того места, где разносили 2-ю армию генерала Самсонова, 1-я армия генерала Ранненкампфа выполнила наконец-то запоздалый приказ наступать, но была остановлена тяжёлой немецкой артиллерией. После упорных боёв, понеся огромные потери, – тоже была вынуждена отступить.
В целом, русские потеряли в этой операции четверть миллиона человек, массу техники – орудий и броневиков, боеприпасов и снаряжения; 10 генералов были убиты, 13 взяты в плен.
Однако вскоре получившие пополнение 2-я и 1-я армии[26 - 1-я армия была полностью укомплектована и с новым командующим продолжила боевые действия.] заняли прочную оборону, и обе стороны перешли к позиционной войне, быстро усвоив особенности современной войны – гораздо безопаснее отсиживаться под огнём артиллерии в окопах, чем беспрерывно атакуя, терять личный состав. Организовать наступление на этом участке фронта немцам было не под силу[27 - Сильно потрепав 1-ю армию, немцы не разгромили русские войска, и даже не освободили собственную территорию.].
Операция в Восточной Пруссии помешала 8-й немецкой армии нанести удар с севера по Варшавскому выступу. Благодаря этому на юге русские войска смогли очистить от австрийцев Галицию, хотя понесли при этом большие потери.
Серьёзные последствия Восточно-Прусской операции скажутся чуть позже. По свидетельству генерала Брусилова, к началу зимы обученная в мирное время армия исчезла. Да, первым шагом к потере элитного, хорошо обученного состава русской армии явились как раз события в Восточной Пруссии, причиной которых было не столько неподготовленность русских армий, сколько халатное отношение командного состава, большей частью штабного, к своим обязанностям. Именно с того момента в русской армии началась острая хроническая нехватка не только хорошо обученных солдат, но, что особо страшно – опытного и грамотного офицерского состава.
Массовая гибель боевого офицерства привела к тому, что среди прибывавших на фронт молодых необстрелянных офицеров стали развиваться фатально-декадентские настроения и вырабатываться убийственные в условиях фронта «аристократически-артистические» манеры, скажем, идти в атаку на пулемёты впереди атакующих солдат, в полный рост с хлыстиком или стеком для верховой езды… Бесшабашность стала удалью. В результате уже в 1915 году в младшие офицеры стали производить имевших боевой опыт и отличившихся из нижних чинов, что, несомненно, привело к деквалификации командного состава и, в целом, к падению армейской дисциплины. А это повлияло не только на характер, но и на продолжительность войны. Изменился, первоначальный идейный замысел. Вызванное войной отношение к людям как к расходному материалу повысило всеобщую степень цинизма. В самом характере войны стали проявляться черты не священной битвы, а смертельной игры, трюка, театрализованности, бравады и фиглярства. Привычные, настраивающие на суровый лад слова: поле брани, поле битвы, фронт, сражение были заменены выражениями вроде: «театр военных действий». Вместо поражение, победа или рождённых Петровской эпохой конфузия, виктория, стали говорить: «выиграть войну», «проиграть войну». Уместно ли при «игре» в войну говорить о святости и патриотизме, о славянской идеи? Уместно ли назвать такую войну Отечественной? Вопросы суть риторические. Похоже, для русского командования слова: «За веру, Царя и отечество» – были лишь лозунгом или боевым кличем. А война рассматривалась как сугубо геополитическое предприятие, результатом которого могли быть, например, аннексированные территории. Но кто же собирался присоединять Берлин к России? Бывали русские войска уже и в Берлине, и в Париже, однако и Франция и Германия от этого никуда не делись, а стало быть – за что же тут воевать?
После смены руководства 1-й армии и отстранения генерала Ранненкампфа, в связи с острой нехваткой опытных боевых кадров, младший унтер-офицер Макаров был возведён в чин старшего унтер-офицера и переведён в сапёры, а ещё через две недели перешёл в «охотники». «Охотников» набирали из добровольцев. Они занимались разведкой, проводили диверсии, делали быстрые короткие нападения на отдельных участках фронта. Утаскивали из-под носа у противника зазевавшихся солдат и офицеров, совершали ночные налёты, позже вели партизанскую войну. Словом, не давали немцам «спокойно» воевать. Такая служба больше подходила Макарову, который не любил однообразия.
6
По прибытии в Омск, новобранцев поместили в «карантин» – держали за забором, никуда не выпускали и с утра до вечера обучали строевому шагу – поодиночке и в строю, ходить в атаку, колоть штыком набитые соломой чучела. Всё это было как во сне, и в памяти Ромы запомнилось как один день, где он рано просыпается и куда-то бежит, чеканит по брусчатке плаца шаг – раз-два, раз-два, колет набитый соломой мешок, снова куда-то бежит, в промежутках между этим проглатывает какую-то еду и, наконец, вымотавшись и устав до невозможности, падает на дощатые, покрытые тюфяками с сеном нары и засыпает. Все события последнего дня в Таре, выбившие его из колеи, отошли на задний план, стали просто фактом, казались из другой – не его жизни. Но в целом всё это ухудшало настроение и добавило лишних тягот к военной службе.
Через две недели их стали грузить в эшелоны и увозить на запад. Через неделю эшелон, в котором находился Рома, прибыл в Брест-Литовск. Здесь, наконец-то, их переодели в военную форму, и ещё через неделю они приняли присягу. Принятие присяги запечатлелось в Роминой памяти особенно отчётливо, в силу ли особой торжественности или потому, что он уже стал привыкать к специфике военного быта.
В день присяги, как по заказу, светило солнце, было уже прохладно, но сухо и безветренно. Их вывели на плац, на краю которого стояло несколько одинаковых столиков, покрытых белыми скатертями. Перед столиками, на некотором расстоянии, стоял знаменщик полка, старший унтер-офицер со знаменем и ассистентом. Постепенно, после нескольких перестроений, с другой стороны каждого столика квадратами выстроились новобранцы.
Перед каждым столиком появились священнослужители разных христианских конфессий и религий. Полковой священник Павел Кедрин с крестом и Евангелием встал перед первым столиком, перед которым стоял самый большой «квадрат». Перед вторым столиком остановился католический ксёндз, перед третьим – лютеранский пастор, перед четвёртым – мусульманский мулла, перед пятым – еврейский раввин, а перед шестым, около которого стояли только два новобранца, не было никого.
Начался чин присяги, и к столику православных новобранцев знаменщик поднёс знамя. В то же самое время к последнему столику – где не было священнослужителя, подошёл командир полка. Оба новобранца вынули из карманов маленькие свёрточки и, тщательно развернув тряпочки, вынули из свёртков двух маленьких деревянных «божков», выструганных из дерева и смазанных салом. Оба деревянных «божка-идола» были поставлены на столик между командиром полка и двумя новобранцами, и только тогда он, как высший в их глазах начальник, привёл обоих к присяге служить «верой и правдой» Царю и Отечеству.
Рома, будучи грамотным, текст присяги прочитал заранее и знал наизусть:
«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять.
Его Императорского Величества государства и земель Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может.
Об ущербе же Его Императорского Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства и дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать как честному, верному, послушному, храброму и расторопному солдату[28 - Или офицеру], надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.
В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».
После окончания чина присяги священнослужители удалились, новобранцы возвратились к своим ротам.
В Российской императорской армии не допускалось сколько-либо заметных религиозных конфликтов. Такова была официальная установка священноначалия. Чуть позже, в циркуляре 3 ноября 1914 года, протопресвитер Георгий Шавельский обратится к православным военным священникам с призывом «избегать по возможности всяких религиозных споров и обличений иных вероисповеданий».
Отныне рядового Романа Макарова определили служить в артиллерию, заряжающим 122 мм гаубицы, по иронии судьбы созданной в конструкторском бюро Круппа к 1909 году и изготовленной на Путиловском заводе в Петрограде. Орудие стреляло шрапнелью более, чем на семь километров и способно было нанести значительный урон живой силе противника, находящейся за укрытием, или остановить идущих в атаку солдат неприятеля.
И началась выматывающая учёба: установка орудия на позицию для стрельбы, снятие орудия, приведение в походное положение, перевозка, снова установка. Полевые учебные стрельбы и, помимо этого, работа на строительстве укреплений Брест-Литовской крепости. Их участком руководил блестящий офицер и умелый инженер, всегда подтянутый, чисто выбритый, стремительный, принимающий решения на ходу, капитан Карбышев, игнорирующий положенный ему личный экипаж и раскатывающий по объектам на велосипеде. Его можно было видеть везде и всюду в любое время суток, всё так же подтянутого и бодрого, что даже было непонятно, когда же он спит и отдыхает ли вообще. Они рыли рвы, насыпали валы, возили землю в тачках. Нередко разгружали вагоны с колючей проволокой, а затем проводили её испытания: на разрыв, на количество сгибов, до микронов измеряли толщину, высчитывали вес одной сажени.
Молодой, ещё не нюхавший пороху поручик, руководивший солдатами, томился от такой занудной, бестолковой, на его взгляд, работы. Он маялся, корчил гримасы, много курил, криво усмехаясь. И в один из дней, не выдержав, высказал свою точку зрения:
– Эта канцелярщина нас погубит! Кому-то, для какого-то отчёта нужны все эти данные, а мы, как болваны, вместо того, чтобы воевать, занимаемся здесь крючкотворством!
– Напрасно вы так, поручик, – раздался вдруг голос.
Все обернулись и увидели, незаметно подошедшего капитана Карбышева. Поручик смутился. Карбышев положил ему руку на плечо и спокойно, не торопясь пояснил: – Я понимаю, поручик, ваш боевой пыл. Но вы знаете, к примеру, что в одной сажени колючей проволоки весу пять десятых фунта? На каждой катушке намотано по двести пятьдесят сажень. Итого вес одной катушки колючей проволоки равен трём пудам. Так вот, когда вам придётся воевать и носиться вместе с солдатами, таская трёхпудовые мотки, укрепляя свои позиции, возможно, под вражеским огнём, или уничтожать укрепления противника, тогда вы вспомните нашу «канцелярщину» с благодарностью. – Он обратился к солдатам: – Вы, насколько я понял, сибиряки?
– Так точно, вашбродь, из Омска.
– Вот как? – улыбнулся он. – Так и я в Омске родился и кадетский корпус окончил. Поверьте земляку на слово – очень важно то, что мы сейчас делаем…
Предвидения капитана Карбышева оказались пророческими. В годы этой войны российская армия израсходовала до 800 тысяч тонн колючей проволоки для устройства различных укреплений и полевых препятствий!
Талант Дмитрия Михайловича Карбышева – военного строителя, инженера-фортификатора ярко проявился при организации работ на строительстве укреплений Брестской крепости, грамотном использовании личного опыта, полученного в Русско-японской войне, и в дальнейшем ходе войны, в его участии в боевых действиях в Карпатах и знаменитом Брусиловском прорыве.