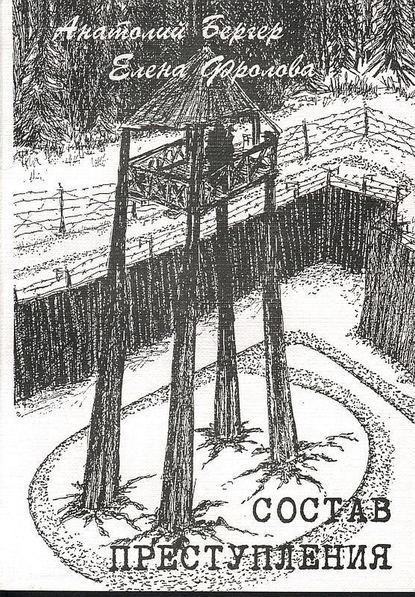По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Состав преступления (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Заканчивал при мне свой 25-летний срок Черенков, старший следователь гестапо в Краснодонской области. Он был замешан в деле «Молодой гвардии» – всего их, сидящих за «Молодую гвардию», было трое, двое давали показания, подтверждающие официальную версию, а Черенков стоял на своем. Он говорил: «Этот Сережка Тюленин известный был вор. Я как узнал, что машину ограбили, вызвал его отца, говорю ему – знаю, чьих рук дело, пусть вернёт игрушки и катится, иначе немцы за него возьмутся. У них булку украл или лошадь – один тариф – виселица. Зато и воры перевелись. И Любку Шевцову знаю, тоже маруха известная. Я настоящие дела вёл, не такую ерунду». Однако главным пунктом обвинения против Черенкова было дело «Молодой гвардии». Он при мне освободился, но по лагерю упорно поговаривали, что в родных местах он был по возвращении убит, и это, мол, дело рук чекистов. Поскольку так говорили не только о нём, я не уверен в достоверности этих слухов. Всякие были полицаи, но в целом их толпа производила тяжёлое впечатление.
Это тоже была Россия – тёмная, мрачная и злобная, жалкая и сходящая на нет. Истовая вера в Бога и стукачество уживались в ней. Вчерашний убийца, у которого руки, как в лагере говорили, по локоть в крови – теперь отбивал поклоны по утрам и крестился на самодельную икону. А продажный стукач шептал другому, такому же, как он: «Ишь, крестится. А когда убивал человека – крест клал? Топчется за баней, а на самом деле такой же идол, как я. Богу молится, а чёрту служит». Так ненавидели и хаяли они друг друга в лагерных закутках, особенно украинцы белорусов, называя их не иначе, как «гадость» или «сатана». А те в долгу не оставались. Вражда, злоба и хитрость витали в воздухе. И так каждый день, каждый час, год за годом.
Но, слава Богу, не одни полицаи сидели в лагере. Встречались и другие. И особенно удивительно было узнать бандеровцев. На воле я слышал о них только чёрные слова. Вероятно, и такие слова нелживы: убийств и жестокостей у них хватало. Но в лагере эти люди производили сильное впечатление. Лица у них были не такие, как у полицаев. Эти лица светились, дышали убеждённостью и верой. Среди них не было стукачей. Сидя те же 25 лет, они сносили тяжкое наказание достойно. К евреям в лагере относились дружелюбно, чего совсем не скажешь о большинстве полицаев. Да и вообще среди бандеровцев было много людей образованных, знающих европейские языки. Они твёрдо верили в своё предназначение, в грядущую независимость Украины, в правоту своего дела. Они пели бандеровские песни, созданные в годы борьбы, и сама их речь была певуча, не то что грубошёрстный украинско-русско-белорусский волапюк многих полицаев.
Странная штука жизнь: не столкни меня с бандеровцами судьба, я бы, как и многие, костил их в разговорах – ведь есть за что! – а теперь как-то не хочется, не могу. Встают перед глазами светлые лица бывшего полковника Пришляка, Ивана Ильчука и других сотоварищей по несчастью, от которых я видел только доброе и хорошее. Истории их были порою высоко трагичны. Так, Пришляк воевал с первых дней второй мировой войны – сначала с русскими, потом с немцами, потом снова с русскими. В году 50-м или 1949-м его жену захватили советские части и предложили ей убедить мужа прекратить борьбу. С тем и отпустили. Пришляк предупредил жену, что оружия не сложит. Она и сама продолжала воевать и вскоре пала в бою. А он попал в плен и отбывал свои 25 лет. Но каждое утро я видел, как он занимается зарядкой, молодо приседает, подпрыгивает и бегает за баней. Он был очень хорош собой, и разговор его отличался мягкостью и расположением к собеседнику.
Другой бандеровец – Луцик – был поистине потрясающей фигурой даже среди сотен подобных ему. Он был схвачен немцами за стихотворение, обвинённое в украинском национализме. Полтора года он провел в Моабите. Потом был выпущен, и в 1944 году попал уже в советскую тюрьму за то же самое стихотворение. Получил он за него 12 лет каторжных работ. Что он там испытал – страшно подумать. Ещё до тюрем немецких и советских он в бою был ранен и плохо с тех пор владел правой рукой. Тем не менее, он всё вынес. В 1956 году его реабилитировали. Однако очень скоро вновь посадили за внутрилагерную организацию, что карается крайне сурово. И вот он кончал свой третий или четвертый срок, досиживал, по его словам, тридцать первый год за решёткой, а всего стукнуло ему от роду 50 лет. Он продолжал писать стихи, но меньше всего в них было его судьбы. Он воспевал родное Закарпатье, облака и радуги над мечтательною водой звучно бегущих рек и зеленью стройно стоящих гор. Под конец срока он стал сходить с ума, воображать себя родственником императора Франца-Иосифа. Грустно было слушать его. Я знаю о нём, что отсидев после лагеря ещё два года за нарушение паспортного режима, он в конце концов угодил в дурдом, и там пребывает и сейчас.
А вот Иван Ильчук кончал свои 25 лет в полном здравии тела и духа. Он был телохранителем начальника отряда у бандеровцев, и на его счету 49 убитых в боях советских солдат. Но, глядя на его доброе лицо, трудно было представить его стреляющим. Это был настоящий украинский богатырь-казак, о котором пели в гоголевские времена бандуристы. Веруя в Бога без надсады и аффекта, он, однако, в воскресенье работать не шёл под страхом любого наказания, чего не скажешь ни о бурно молящихся полицаях, ни о молодых зэках, много рассуждающих о Боге и символе веры. В Иване Ильчуке была та искренность, которую не возьмёшь напрокат. Убеждённый в своей миссии борца за самостийную Украину, он готов был умереть за это. Нереальность мечты о самостийности его не остановила. Он остался несгибаемым.
Литовцы произвели на меня большое впечатление с первых же дней. В дальнейшем это впечатление только усиливалось. В этом народе было редкое теперь чувство единой семьи. В то же время ко всем остальным нациям они относились дружески. Ни ненависти, ни презрения, ни злорадства. Литовцев в лагере было очень много, но самые «тёплые» места принадлежали, как правило, не им. Редко литовец оказывался даже на месте бракёра. Правда, одного литовца-фельдшера в санчасти я знавал, но он, по-моему, стукачом не был. Земляки к нему относились хорошо, а это важный показатель. Литовцы ненавидели стукачей. Говорят, что в старые сталинские годы литовцы и бандеровцы уничтожили немало предателей и сбили спесь с уголовников, верховодящих до того по лагерям. Дело доходило до поножовщины, и урки отступили. Страшные были времена, страшные нравы. Сейчас всё тише, не ходят к оперу втроем, вчетвером (а если один пошёл – значит, стукач, – убьют, отрежут голову и принесут на вахту. Так рассказывают в лагерях старики).
Среди литовцев были, конечно, люди разные. Много попадалось могучих, лесных, по-медвежьи коренастых мужчин, реже встречался городской тип. Ярчайшее впечатление производил Балис Гаяускас. Он был родом из Каунаса, из интеллигентной семьи. Его организация поддерживала связь с лесными группами. Во время городской облавы Балис застрелил гнавшегося за ним офицера. И вот – 25 лет срока, а было Балису тогда всего 22 года. Он прошёл все лагеря – от сталинских до сегодняшних. Но ни разу я не видел его раздражённым, грубым, злым. За 25 лет отсидки он изучил 20 языков и мог на них писать, разговаривать, думать. Все европейские, 6 языков Индии, прибалтийские, славянские. При мне он начал изучать тибетский язык. С Балисом дружили в своё время многие достойные люди, из последнего лагерного призыва – Даниэль. Балис за 25 лет ни разу ни в чём не пошёл на компромисс, не отказывался ни от какой работы. Высокий, стройный, с открытым смелым лицом и лёгкой походкой, он был подлинный герой, герой во плоти. Я таких раньше не видел и не знаю, встречу ли ещё. На воле таких нет. Я счастлив, что этот человек дарил меня своим расположением. Наши беседы о русской и литовской культуре, об исторических путях и судьбах народов живут в моей памяти. Литва может гордиться таким сыном.
Латыши на литовцев походили только фамилиями. Они не производили впечатления политзаключённых. Работали лагерные работы истово, и ходила присказка, что два латыша заменяют шагающий экскаватор. Как начиналась в лагере стройка, их пригоняли толпами, и кругом слышался их говор. Многие из них не доверяли друг другу и завидовали удаче земляка. Не раз кто-нибудь из них останавливал меня и говорил: «Вот видите, герр Бергер, земляки опять настучали на меня – сегодня поговоришь, а завтра всё известно оперу. Нет ничего хуже земляков, поверьте мне». Такие речи я слышал от них часто. Однажды я беседовал со стариком-латышом, он рассказывал, как воевал, имел чин капитана, пользовался уважением немцев. В тот же вечер меня остановили два других пожилых латыша и своими каркающими голосами стали ругать моего недавнего собеседника – он-де врун, болтун, никакой не капитан, нечего его слушать. Латыш по фамилии Катис – высокий, седой черноглазый старик, блестяще говорил по-немецки. Про него я слышал, что он был начальником концлагеря у нацистов. Однако в лагере он особенно тяготел к евреям и старался заводить с ними разговоры. Правда, мне он сказал: «Вот, Бергер, Вы ходите вместе с евреями, а среди вас кто-то обязательно стукач. Уж Вы поверьте мне, я знаю, один кто-то обязательно стукач». По лагерному опыту я знал, что стукачи очень любят сеять подозрительность среди зэков и обязательно на кого-то указывать пальцем. Мы уже знали – тот, кто называет стукачом того, этого и этого, наверняка стучит сам. Психологически это понятно, и вообще психология стукача не отличается тонкостью. Наводить тень на плетень, оговаривать товарища – вот, пожалуй, и вся стукачья уловка. Стукачи со времен сталинских и поутихли, и в то же время стали наглее, не боятся ножа, не шарахаются от прямого взгляда. Но теперь их меньше, а среди молодых совсем мало. Это им бодрости не прибавляет. Чтобы закончить о латышах, расскажу о 72-х летнем Ульпе, бывшем штурмбанфюрере СС. Он не был в Латвии с 20-х годов, жил в Париже, работал шофером такси. Меня он поразил своим знакомством и родством (по его словам) с великим поэтом России Владиславом Ходасевичем. Жена Ульпе, как он утверждал, была сестрой Нины Берберовой, жены Ходасевича, и жили они на одной лестнице – Ульпе на втором этаже, Ходасевич на третьем, на улице «Четырех каминов». Впрочем, поэт не нравился Ульпе. Он, по мнению прибалта, был слишком молчалив и бледен, много сидел за письменным столом. Я живо представлял себе гордое бледное лицо, прямые чёрные волосы, острый взор поэта, идущего смутной парижской улицей под «европейской ночью чёрной». Вот ведь, в лагере встретить знакомца Ходасевича – могло ли такое присниться? Однако случилось наяву. Уж за одно это спасибо судьбе.
Страшным видением лагеря были сумасшедшие. Я видел их немало. Один – литовец – от подъёма до отбоя быстро ходил вдоль колючек и вышек, широко размахивая руками и беспрерывно громко, порою до крика, бормоча. Большие карие глаза смотрели как-то пусто. Самокрутка дымила в зубах. Так ходил он день за днём все годы, сколько я его знал. Я видел раз или два, как литовцы подходили к нему, называли его по имени, начинали что-то говорить ему, но уже через несколько минут отходили прочь, а он продолжал ходить, громко бормоча и размахивая руками. Балис на мой вопрос, что же он говорит, пояснил, что бедняга выкрикивает обрывки слов, какую-то бессмысленную бесконечную магнитофонную ленту своего безумия. Как и всех прочих лагерных сумасшедших, литовца свели с ума на следствии зверскими пытками, на которые столь щедра была сталинская година. Другой сумасшедший – украинец Федюк – был из полицаев. Тихо сидел он где-нибудь в углу и курил или в пошивочном цехе выворачивал рукавицы на колышке и даже выполнял полнормы, что для инвалида 2-й группы было вполне достаточно. К достоинству его как полицая принадлежало то, что он хотя бы не стучал. Ещё сумасшедший, белорус Адам, тоже был тих и смирен, но иногда начинал гулять, как говорят, по чужим тумбочкам, за что и бывал бит. Были и ещё сумасшедшие – старик-татарин Бабай, с которым случались жуткие приступы падучей, и пожилой украинец из полицаев, который обыкновенно стоял где-нибудь с рыхлой улыбочкой, наблюдая происходящее вокруг. Из молодых я знал только одного сумасшедшего – грека Деонисиади, история его трагична. Кто-то пустил про этого благородного доброго человека грязный слух – обычную лагерную парашу, что он, якобы, стукач. И, увы, сработало. Деонисиади был мал ростом, щупл да ещё одноглаз – и без того несчастен. И вот клевета его сразила, он сошёл с ума. Его увезли куда-то – не то в Казань, не то в Днепропетровск, в одно из тех дьявольских заведений, при мысли о которых бросает в дрожь. А стариков-сумасшедших так и держали в лагере среди нас. Это, конечно, откровенная жестокость, и оправданий этому нет. Порою цех по пошиву рукавиц напоминал сцену из пьесы Беккета – сидит в углу Федюк, что-то бубня под нос и уставившись в одну точку, по направлению к нему бредёт Адам, а за окном маячит размахивающая руками фигура шагающего, как всегда вдоль колючек, литовца. Оторопь брала, когда глядел на это. Чтобы закончить о старшем поколении зэков, скажу ещё несколько слов. Время заключения они воспринимали как-то странно. Как бы дело происходило в межпланетном корабле, где земные годы не властны. Старики считали, что они вернутся назад на волю – не только в родные места, но и в родные былые времена, и возраст их теперь тот же, что и в те часы, когда за дверью послышались роковые шаги гэбистов. И это ощущение пронизывало всё их существо. Они пребывали в некой консервации, в летаргии наяву. Словно бы не старели, что-то отжившее уже свой век смотрело из их выцветших глаз. Воспоминания о прошлом обретали плоть и кровь и порою в сознании зэка заменяли реальность. Это многих спасало от отчаяния, сумасшествия, ожесточения. Только поистине высокие люди жили нынешним днем и не строили иллюзий, а духовно росли и светились. Балис Гаяускас, Ильчук, Пришляк и немногие подобные им оставались живыми людьми в этом мире теней и призраков. А сколько всяких мистических озарений мерцало в смутном лагерном воздухе! Широко бытовала легенда о 12-летнем цикле истории. Каждые 12 лет в мире совершались фатальные перемены – 1905–1917–1929– 1941–1953–1965, следовательно, теперь – 1977, и его ждали со страхом и надеждой. И ведь правда, революции, войны, смерти и смещение владык как раз падали на означенные перстом года. Или какой-то факт политической злобы дня в умах зэков возвышался до знаменья. Отменили вышку (т. е. высшую меру) двум сионистам – 1 января 1971-го года – год обещает большие перемены. Такого рода провидчества нас, молодых, недавно с воли прибывших – только смешили. Но мы понимали их психологическую подоснову – горестную и трагичную. Ведь десятилетия гробовой безнадёжности оседали в сердцах этих бедных людей, и любое веяние лучшего оживляло в них надежды. Надежды, как и воспоминания, так спасительны! В конце срока я особенно хорошо понимал что творилось в душе старых зэков. Ещё была легенда о трёх силах в мире – советской, американской и еврейской. Притом, мировое еврейство дирижировало первыми двумя и руководило миром. Всё происходящее на земле истолковывалось в этом духе. А началось это, якобы, ещё с библейских времён. И Вавилон, и Рим, и третий рейх пали мановением еврейской руки, и Сталин умер, сражённый ею. За большевистский путь России вся ответственность также возлагалась на евреев. Евреем считался не только Ленин, но и Сталин, и Брежнев, и все, кто правит с тех пор Россией. Почему Сталин? Джуга-то по-персидски еврей! Брежнева выдает внешность. Да и Подгорного тоже. Из сказанного, наверное, ясно, как силён в теперешних лагерях антисемитизм. Только у литовцев и бандеровцев и некоторых групп молодых не замечал я его. Молодые зэки, к которым я принадлежал, представляли собой разношерстное политическое месиво. Но и здесь главным водоразделом была национальность. Кровь разделяла людей куда глубже идей и взглядов. Биология торжествовала над духовностью. Древние склоки предков ставились во главу угла сегодняшних отношений. Приверженность к национальному почиталась высшей доблестью. Лагерь оказывался на поверку концентрацией современного мира, грубо и открыто высвечивая то, что бродит в сумерках души нынешнего человечества. Увы, нацизм, это дьявольское детище ХХ века, чудился предтечей грядущих зловещих столетий, которым суждено прокатиться по Земле. И на многие ещё грустные размышления наводила лагерная действительность. Но вернёмся к ней.
Одной из первых встреч моих в лагере была встреча с представителями русского национального движения. Это была известная группа из Ленинграда – Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа – сокращенно Весхасон. Были это люди, как на подбор, высокообразованные, знающие языки и мировую культуру, не говоря уж о русской. Существовала эта группа с 1962-го года, а в 1967-м году попали на скамью подсудимых 22 человека. Их предводитель – Игорь Вячеславович Огурцов – держался достойно. В ответ на приговор суда он прочёл свой приговор судьям. А получил он 15 лет строгого режима и 5 лет ссылки, и из 15-ти лет срока половину должен был отбыть во Владимирской тюрьме. Остальные вели себя, по их собственным рассказам, похуже… Про Огурцова я ещё слышал, что, пытаясь сломить его дух, подослали адвоката к нему домой, и тот стал внушать родителям, что сыну грозит расстрел, если он не смягчится, и они должны помочь следствию и суду. Но отец Огурцова – майор в отставке – ответил, что, любя сына больше жизни, не может, как гражданин, воздействовать на его убеждения, что это безнравственно. Был среди этой группы поэт Михаил Коносов, был знаток амхарского (эфиопского) языка Платонов, полиглот Устинович, подающий надежды литературовед Вагин и др. Но в лагере Вагин, например, щеголял антисемитизмом. Он и некоторые другие с евреями не только не общались, но и старались не очутиться на одной тропе, не оказаться в столовой за одним столом. В истории России идеалом для них были Николай I и Александр III – апофеоз русского православия и национального духа. Константин Леонтьев в философии, Достоевский «Дневника писателя» в литературе, Победоносцев и Столыпин в политике – вот, что привлекало Вагина. А маячил туманно за всем этим тяжёлый анфас Пуришкевича. Русские зэки из бывших уголовников и солдат тянулись к этому. Когда они шли по лагерным тропам – человек пять, и слышалось издали: «Византизм, жиды, Россия, Федор Михайлович» – в воздухе пахло погромом. Некоторые сожалели об отмене порки в России и хулили писателей-эмигрантов – и старых и новых. Сталин устраивал их больше, чем Ленин, в нём они видели гораздо больше русского, исконного. Иван Грозный был куда им ближе Петра Первого и «Клеветникам России» почиталось как венец русской поэзии. Они жили, как во сне былого. Но я подчёркиваю, что это моё впечатление относится только к некоторым из них. Ни Миша Коносов, ни Платонов такого впечатления не производили. Это благородные люди, как и их вождь (достойный этого звания) Игорь Огурцов, перед которым я преклоняюсь. А вот о Вагине мне рассказывали, что перед освобождением он попросил тайной встречи с одним из лидеров сионистской группы – Богуславским и сказал ему, что не хотел бы в глазах европейского общественного мнения выглядеть антисемитом, что он уважает евреев, считает их замечательным народом, но в условиях лагеря вынужден был придерживаться другой линии, о чем сейчас сожалеет. Таков Вагин.
Сионисты начали прибывать в лагеря, когда мой срок близился уже к половине. Я видел их первую реакцию и постепенное вживание в мир колючек. Совсем разные и по возрасту и по образованию, они всегда были вместе, и странно было наблюдать людей на шестом десятке на равных общавшихся с теми, кто едва перевалил на третий. Вначале тихие, они постепенно смелели и в конце концов чуть не задавали тон, вызывая к себе определённое уважение политзаключенных. Это соответственно повышало и уважение к Израилю у многих зэков. Однако вместе представляя силу, по отдельности сионисты выглядели по-разному. Собственно говоря, их было две группы – самолётчики и так называемая элита. Среди самолётчиков был бывший пилот Дымшиц, рабочий из Риги Хнох и ещё некоторые. Это были смелые самоотверженные люди. Чувствовалось, что они жизнь положат за еврейский народ, за Израиль. Другие производили двойственное впечатление. Впрочем, преданность их Израилю не вызывала сомнений. Конечно, были среди них один – два человека нетерпимые и категоричные. Даже во времена Мафусаиловы они вносили дух склоки и интриги. Александр Македонский, по их мнению, был велик более всего потому, что хорошо однажды отнёсся к евреям. Евреи, подобные Иосифу Флавию, презирались. Чем ближе к современности, тем большую ненависть вызывали Фейхтвангеры и Эренбурги, а имена Пастернака и Мандельштама произносились обиженно. Я думаю, что подобные люди компрометировали и Израиль, и сионизм.
Молодые украинцы терялись в тени бандеровцев. По-человечески некоторые из них нравились мне. Особенно запомнились Назаренко и Коц – настоящие украинские демократы. Но были и такие, что вину, скажем, украинского юдофобства сваливали на Россию, а зверства Богдана Хмельницкого и дальнейших своих погромщиков вообще отрицали. Но один из украинцев нового поколения запомнился мне навсегда. Это был простой сельчанин. Когда власти задумали разрушить его родную церковь, он поднял крестьян и два дня они держались, защищая храм, где когда-то молились их деды и отцы. В конце концов, войска и милиция разогнали народ, а тот, о ком я говорю, получил 6 лет строгого режима. Этот худой измождённый человек и в лагере вёл себя мужественно и старался помочь товарищам, чем мог.
Были в лагерях и армяне. Одна группа села за несогласие с линией границы с Турцией, а также с Грузией. Другая проповедовала нацистские идеи. Это, конечно, производило самое дурное впечатление. Маленький гонимый народ – и такая группа (впрочем, всего три человека). Но из песни слова не выкинешь.
Грузин в лагерях я не встречал. Был один аварец – очень милый и славный юноша, был азербайджанец, был башкир, был узбек. Да и кого только не было…
А сейчас мне хочется рассказать о Юрии Ивановиче Фёдорове. Это был удивительный человек. Внешне он настолько напоминал Дон Кихота, что и Доре и Домье, увидев его, поразились бы мастерству матери-природы и почтительно склонили бы перед ней свои карандаши. Это был поистине восклицательный знак бородкой вперёд. И походка, и голос, и взгляд – всё напоминало великого рыцаря Ламанческого. Но судьба его была ещё удивительней наружности. Юрий Иванович до ареста был ни много ни мало капитаном УВД и служил на Литейном, 6, почти в Большом доме. Будучи старшим следователем, он знал и соседей – следователей КГБ. Юрию Ивановичу было лет 40, когда он разочаровался во всём, чему до того поклонялся. Идеалом для него некоторое время ещё оставался Ленин, всё дальнейшее он считал извращением. Потом он разочаровался и в Ленине. Юрий Иванович увлёк других, они основали так называемый «Союз коммунистов». Вскоре они были арестованы. Фёдорова всячески старались уломать не заходить далеко, обещали замять дело, восстановить на службе в прежнем звании. Когда это не прошло, обещали минимальный срок, чтобы только суд был закрытый, как у всех нас. Но Юрий Иванович отлично знал законы (что естественно) и умел их применять куда лучше наивных и шумных зэков, мало понимающих ситуацию, в которую они попали. Он добился открытого суда, и судил его трибунал. Получил Фёдоров 6 лет – это было в 1968 году, не самом жестоком; в 1969-м ему могли раскрутить всю катушку, а то и что-нибудь похуже придумать. Уже под следствием Юрий Иванович вёл себя подобно политическим былых времен. Когда входил к нему начальник тюрьмы Круглов, он не вставал с койки, а на замечания отвечал, что правила на стене – для уголовников. «Вы ко мне не постучавшись вошли, почему я должен вставать перед Вами?» Так же гордо Фёдоров вёл себя в лагере. Вокруг него группировалась демократическая молодёжь, он возглавлял все голодовки и протесты. Его почти не видно было в лагере, он был то в карцере, то в ПКТ (это то же, что и БУР), а в конце концов отправили его во владимирскую тюрьму. Человек он был добрейший и деликатнейший, но непримиримый, когда речь шла о важном. Любопытно, что он картавил, подобно Ленину. Самым ценным в нём было не то, что он говорил, а тот отсвет, который его как бы окружал.
Подобным ему человеком был Кронид Аркадьевич Любарский, москвич, астроном. Я общался с ним всего одну неделю, так как он прибыл в лагерь, когда кончался мой срок и меня должны были отправить этапом в ссылку. В Любарском поражала душевная чистота, большая культура и настоящее человеческое мужество. Он попал за распространение самиздата и держался на следствии и суде достойно. Сейчас он во владимирской тюрьме и должен быть там до конца своего срока, т. е. 1977 года.
Была в лагере и светлая молодежь. Многообещающе выглядела вначале марксистская группа студентов из Киева, Рязани, Саратова и Петрозаводска. Это были сплошь отличники. Они и людей себе подбирали по институтам, ориентируясь на списки отличников, что висят около аудиторий. Весь теоретический их багаж составляли сочинения их вождя Вутки – киевского еврея – человека потрясающей одарённости. Его книги «Закат капитала» и «Анти-Боринг» написаны были, когда автору не исполнилось и 24-х лет. Это были подлинно научные работы, даже в КГБ их сравнивали с сочинениями Маркса и Энгельса. Кроме того Вутка знал превосходно иврит, идиш, наизусть цитировал Библию, с yкpaинцами говорил по-украински к вящему их восторгу. В этой группе был без пяти минут прокурор Олег Сенин, он уже вёл дела, и когда сидел сам по 70-й, оказался однажды в одной камере с бывшим подследственным своим, чем поразил последнего до глубины души. Но в дальнейшем члены этой группы разошлись: евреи во главе с Вуткой – в сионизм, русские – к весхасоновцам. Это понятно – люди доктрин, теряя одну доктрину, ищут другую взамен и находят. Даже молодые ребята – марксисты из Свердловска (у нас был один из них, Владик Узлов, юноша на редкость милый и славный) под конец не избежали общей участи, и Владик, хоть и не так бурно, как прочие, – тоже. Интересно, что их марксизм более тяготел к чистому ленинизму, чем группы Вутки – Сенина. Была маленькая группка – забыл, откуда. Они стояли за возрождение сталинизма. Буквально месяца не прошло, как расцвели их души пышным цветом черносотенного русопятства, а ребятам было лет по 20. Получалось так, что тот квасной патриотизм, который так презираем был подлинной русской мыслью, сегодня порой мог показаться знаменем грядущей России. Я слышал, что этому ужасался Андрей Донатович Синявский, оставивший в лагерях по себе добрую память как человек хороший, умный и благородный. Это ужасало и Юрия Ивановича Фёдорова, которого за сочувствие евреям называли полицаи «жидом», и других людей, не похоронивших в себе светлую Россию, но были и те, кто шёл за Россией чёрной. Даже группа из Горького, вначале радовавшая впрямь волжским каким-то душевным здоровьем, понесла урон – один из её членов – Пономарёв – не ушёл от почти всеобщей участи молодых в лагере. Павленков говорил мне: «Мы в нашей организации не проповедовали ничего безнравственного». Их группой была в числе прочего написана листовка, где ставился вопрос: «Кто же мы, русские, – нация Рылеева, Герцена, Чернышевского или нация доносчиков, стукачей, надзирателей?» Получили они от четырёх до семи лет, Павленков и Капранов – по семи.
Та группа, к которой принадлежал несчастный Деонисиади, была из Алма-Аты. Она расклеила тысячи листовок по городу, и не могли её «засечь». Но один из её членов по причинам сугубо личным покончил с собой, оставив записку, и записка эта погубила остальных. В ней было что-то политически предосудительное. 26-летний Удодов из Минска десять лет назад со своими сверстниками пытался возродить феодальные идеалы и рыцарские нравы. Один из группы был своими сотоварищами заподозрен в отступничестве, и остальные приговорили его к смерти. Но, будучи рыцарями, решили, что должна быть дуэль с предателем, и выпало драться с ним Удодову. И шпаги скрестились. Удодов заколол подозреваемого и получил 10 лет, которые при мне и заканчивал. Когда теперь я слышу о пламенных мальчиках, поверяющих высокие идеалы поступками и самой жизнью своей и непримиримых к тем, кто не выдерживает вдруг, – я вспоминаю сутулого бородатого Удодова, которому уж не 26, а все 46 можно было дать. 10 лет по лагерным тропкам вдоль колючей проволоки, 10 лет из столовки в барак, из рабочей зоны на проверку – 10 лет изо дня в день! С рыцарством не шутят в наше время, но избавь нас Господи от кристальных Робеспьеров, мыслящих гильотинно.
Рабочий из Керчи Чамовских подымал завод на забастовку, требования были чисто экономические. Тоже не обошлось без листовок. Срок – пять лет. Чамовских по сути своей был ближе всего к Юрию Ивановичу Фёдорову. Его чистая душа глядела из голубых его честных глаз. Он в лагере ни в чём не шёл на компромисс и не искал никаких лазеек благополучия и тихого житья. Но как мало в лагерях сегодняшних таких людей. Не хочется вспоминать о сломленных, жалких людях, не хочется называть имена…
Ладно, пришла пора сказать о прочих сотоварищах по несчастью, тех, кого мы называли солдатами. Это были те, кто служил в армии, находящейся в ГДР, а также в Польше, Венгрии, Чехословакии. Наскучив службой, от издевательств ли сержантов, старшин, а чаще по причине тяги к западной красочной жизни, эти девятнадцатилетние, двадцатилетние мальчишки ударялись в роковые свои побеги. Чаще всего их ловили, кое-кто возвращался сам. Всем им клеили, по-лагерному говоря, статью 64 (измена Родине), т. е. от 10 до 15 лет, и сидели они год за годом, мужая в лагере, лучшие, светлейшие годы отдавая проклятой колючке. Грустно было видеть их дичание и зверение. Почти все они были русскими, и немало их попадало в сеть национализма самого наипогромного толка. Притом они тяжелее всех в лагере переживали невольный аскетизм. Отсутствие женщин доводило их чуть не до безумия. Какая-нибудь замухрышка-медсестра рисовалась в ночных грёзах первой любовницей мира. Увидеть её или жену какого-нибудь офицера – это значило поймать сеанс. Они говорили: «Вот Иванова сеанс показала», т. е. что по лагерю мелькнула юбка и толстые икры этой самой Ивановой. И «попавший на такой сеанс» прятался в тёмный угол, чтобы вздрочить, отсюда лагерная поговорка: «Как хочет, так и дрочит». Солдаты не стеснялись громко рассказывать по лагерю о том, как дрочили и по какому случаю – не только живьём женщину увидев, а например, посмотрев кинофильм или просто на фотографию – это называлось «на карточку дрочить». Но педерасты в политических лагерях не водились, зато в бытовых это дело процветало.
Теперь о судьбах солдат. Они были в чём-то схожи, эти судьбы. Расскажу, что помню. Николай П. с товарищем, находясь на посту, привязали третьего караульного к столбу и ушли за границу, иногда оглядываясь на оставшегося, который безуспешно пытался вырваться и выплюнуть кляп. Беглецы попали в США, где им предложили военную или гражданскую карьеру на выбор. Николай выбрал военную, друг его мирную. Он и посейчас в США. Н. два года учился в школе ЦРУ, затем был заслан в Болгарию, где его и повязали. Срок – 12 лет. Это была личность неприятная, тёмная.
Его побаивались в лагере. Владеющий всеми приёмами дзюдо и карате, он с вечной усмешечкой на смазливом лице похаживал по дорожкам или играл в домино, и горе было тем, кто его обыгрывал. Одного он избил скамейкой едва не до смерти. За это Н. перевели в другой лагерь, только и всего. А вот солдат Г. границу перешёл, вернее, переплыл речку пограничную да оглянулся назад и не смог дальше идти. Так и вернулся сам на Русь – срок 10 лет. В лагерях он, как и Н., чиферил, дрочил, играл в домино, ругал жидов, слушал речи о великой России, на белом коне с белым мечом грядущей. Третий солдат – П., служил в ГДР и на машине, прорвав заслон, сквозь стрельбу и переполох помчался в американский сектор. Потом затосковал, решил вернуться и вернулся. Срок – 10 лет. Солдат К. бежал в Турцию, но не добежал. Срок – 7 лет, т. е. ниже низшего предела. Причина – удалось доказать на суде жестокость старшины, под началом которого К. служил. Был солдат, совсем мальчишка ещё, красавец, генеральский сын, он из германской группы войск, с товарищем пытался уйти на Запад. Их окружили, они залегли в сарае, четыре дня отстреливались, положили нескольких из нападавших. Их преследовали и советские войска, и гэдээровские. Товарищ того, о ком я говорю, в бою погиб. Наконец, атакующие ворвались в сарай, и советский капитан с пистолетом в руках бросился к Владимиру (так, кажется, его звали) с явной целью убить его. Он был взбешён и убил бы, но немецкий офицер грудью заслонил Владимира и не позволил совершиться убийству. Так и стоял, заслоняя его, пока всё не разрешилось, и не прибыли за Владимиром из ГБ. Срок – 14 лет. Владимир при мне начал только лагерный путь. Что с ним будет – Бог знает. Ясно, что лучшее своё – молодость – он потерял за решёткой. Отец отрёкся от него, приезжала к нему на свидание мать… Был ещё солдат, деревенский огромный парень, он ушёл из армии, стоявшей в Польше, добрался до Румынии, и здесь его выдала женщина, у которой он заночевал, скитаясь по деревням. Уже из лагеря он пытался бежать и к двенадцати своим годам трибунальным получил ещё два. Солдаты более всего находили общий язык с полицаями и шнырями (как называли ещё надзирателей). Это понятно – мундир сближает, а теперешняя пропасть между ними не слишком глубока. Мало ли что ударит в голову буйной русской натуре – сегодня с вышки в зека целиться, а завтра махнуть через кордон – и поминай как звали. Солдаты были главными сквернословами по лагерю. Двух слов они не говорили без этого великого подспорья человеческого общения на Руси. От них шли всякие лагерные присказки: «Ты тюльку не гони» или «Ты кончай дуру гнать», а также «Канай, канай отсюда. А девочка – ништяк, эй, мужики, не борзеть, пошли кайф ловить, засунь язык в жопу, гребаный твой потрох» и т. п. От всего этого качалось небо над вышками. А в общем – жалко ребят, блудных щенков России. Что им улыбнется теперь в их ломаной-переломаной жизни…
Но противнее всего были в лагере вчерашние уголовники. В своих бытовых лагерях, проиграв в карты грязную свою жизнь, они решались для спасения её перебраться в лагерь политических. Для этого писали на заборах что-нибудь грубо-антисоветское или даже листовку корябали такую же, а то ещё выкалывали на груди: «Раб СССР», «Раб КПСС» – и пожалуйста, их переводили к нам. Поскольку романтический налет ещё не сошёл с подлых профессий вора и грабителя, их принимали у нас с интересом. Они этим искусно пользовались. Были они поголовно стукачами, чаю доставали, по их выражению, столько, что «хоть жопой ешь», а и политический зэк к этому лагерному зелью неравнодушен – многие грешили пристрастием к завариванию. Короче говоря, уголовнички в политических лагерях устраивались неплохо. Они тоже распределялись по национальному признаку, хотя фюреры нацгрупп порою несколько стеснялись таких адептов. Вот например Н., настоящий орангутанг, украинцам доказывал, что он тоже за самостийную без москалей и жидов, гарную родину. Н. уже видом своим заставлял вспомнить о тюремной камере, вонючих нарах. Про таких правду говорят: «Кому тюрьма, а кому – мать родна» или ещё – «Кому тюрьма, а кому – горница». Конечно, в наших лагерях уголовникам приходилось отказываться от излюбленной карточной игры, да и гомосекс у нас не в чести, как и скотоложество, что, говорят, у бытовиков встречается, и лагерные кобылы у них к этому привычны. Страшно всё и омерзительно, но ведь есть в жизни, и нельзя про такое молчать. Проклятое биологически усеченное лагерное бытие до чего только человека не доводит! Уголовники вообще на воле не приживаются, это для них чужой край, а тюрьма – родимая сторонушка. А в тюрьме, то бишь в лагере, свои законы – и кобыла за жену сойдёт, и жизнь дешевле бубнового туза. Мне рассказывал один полицай, как после суда его везли вместе с урками. Ночью, лёжа на верхней полке, он поглядывал вниз на карточную игру. Один из урок проигрался вдребезги и поставил, наконец, на кон себя. Проиграл. Встал, медленно разделся догола и повернулся лицом к стене, спиной к людям. Трое поднялись с места, один вынул из кармана финку и уже нацелил её под лопатку голому, но тут не выдержал полицай, бросился с нар, заслонил обречённого, закричал, что не даст убить человека. «Тогда тебя замочим», – сказали ему. По счастью, набежали на крик менты, рассадили всех по разным камерам. Впрочем, проигранному обольщаться не стоило, долг за ним, а урки долгов не прощают. Проигрывают они часто и людей сторонних, и не только «на смерть», но и на педерастию. Вот что такое уголовник, и такова цена уголовной романтики.
Но не хочется кончать эти записи на такой ноте. Наши политические лагеря всё-таки иные. Добрая память о Балисе Гаяускасе, о Юрии Ивановиче Фёдорове, об Иване Ильчуке живёт во мне. А лес за заборами осенний, пёстрый, диктующий чуть не вслух стихи… Или весной – колючая проволока блестит, столбы отсырели, фонари сочатся. Ночной дождь в лагере… Ох, лагерь, лагерь, строки мои проштемпелёванные, запечатанные. Надзирательские свистки, окрики, собачий лай, тулупы и карабины на вышках. Охота смертная да участь горькая…
Этап
Когда меня втолкнули в карцер и дверь проскрежетала по-тюремному, я вспомнил слова Бориса Пэнсона, что каждый зэк должен посидеть в карцере, иначе это и не зэк. «Накликал, чёрт!» Ну ладно, на то и лагерь. Я не подчинился приказу начальника лагеря. Он велел разгрузить машину с опилками, а я был освобождён санчастью от погрузо-разгрузочных работ. Начальник был пьян, бледен и зол. «Ну, пойдём», – сказал он мне в ответ на отказ. «На пять суток его», – буркнул охране. Зэки в рабочей зоне провожали наше шествие любопытными взглядами. Дело шло к вечеру. Меня вывели из рабочей зоны и через весь лагерь повели в карцер. В помещении надзорсостава отняли ватник, шапку. И вот втолкнули в закуток. Три шага вдоль, полтора – поперек. Койка деревянная откидывается на ночь. Пенёк-столик и пенёчек-стул. Ни сесть, ни лечь. От окна холодом веет, от печки в стене – угаром. Книг, газет – нельзя. Даже бумагу на оправку дают не газетную. Еда через день. Что это – понял назавтра. Вечером дали мне ужин – кирзовую кашу и облезлый кусочек рыбы, кусочек черняшки, кружку кипятка, подкрашенного коричневой жижей. На ночь откинули доску. Постели не положено. Так и прокрутился всю ночь на доске от холода и угловатой неприютности голого дерева. Шныри заглядывали в камеру по-волчьему, топотали по бетонному полу в коридоре. Утром – скрежет, крик, топотание снова. На оправку, мытье – минуты три, не больше. «Нечего рассиживаться, не у тёщи в гостях». Сунули в кормушку тёплую воду, уже без жижицы и кусочек хлеба – грамм двести. Это на весь день. Вот тут и пахнуло голодом, слабо ещё, но заметно. Я тот день держался молодцом, сочинял стихи, мерил камеру шагами туда-сюда, писал строки пальцем на пыльном стекле оконца. Два стиха сочинил, вчертил в пыль и ходил дальше, поглядывая на них иногда. За оконцем зарешёченным весна набухала. Я это угадывал, а увидеть нельзя было, решётки плотные, тяжёлые мешали. К вечеру пришла голодная тоска. Мечтал о завтрашней миске баланды как о радости чудесной. Думал, как буду каждый глоток впитывать, вбирать в себя, радоваться следующему за ним, как хлеб стану по крошкам лелеять, каждую крупинку обсасывать. Ночью дерево доски стало чуть ли не родней, так устал за день ходить.
С утра день потянулся, как болото. Ходить я устал, лежать на полу страшно – бетон под топким настилом, сесть негде. Стой, как лошадь, у стены. Время умерло. Оно вправду иссякло. Осталась тяжесть недвиженья его. И я в ней. И нет этому конца, и начала нет. Так и маялся. Понял истину этого слова – маяться. И наверное, не самое оно точное, есть в нём всё-таки двигательное что-то, маятниковое. А тут недвижимость была, безглаголие, что-то длинное и мутное. И когда принесли миску баланды, наконец-то, я уже и не верил, что время пришло – просто принесли еду, которую ждал, может, тысячу лет ждал, может, жизнь всю. И как я ел эту баланду, как вникал в самую основу состава её! Крупинку всякую, капустинку, картошки уголок чуял, как спасенье. Как хлебные крошки всасывал по одной! Думал, вот теперь-то я узнал цену пище. Теперь понял, как надо есть. Не глотать кусками, не жевать спешно сквозь болтовню и постороннюю мыслишку, а впитывать прямо в кровь свою, в плоть. Так я думал тогда. На собственной шкуре пережив голодные муки, понимал что к чему.
Так дальше и шло. На четвертый день уже не мог стоять долго, не выдержав, ложился на пол. Потом месяца два-три под лопатками болело, дохнул бетон в спину преисподним холодом своим. Когда вышел, наконец, из карцера, полчаса кружило-мотало, товарищи поддерживали за плечи, а то бы упал. Весна уже пришла в Мордовию, чернело, мокрело вокруг. В глазах зелено было и от карцера, и от весны.
Едва очухался от карцера, бросили на этап. Путь в Красноярский край предстоял долгий, сколько-то тюрем придется понюхать, сколько в Столыпиных помытариться! Выдали мне мою гражданскую одежду. Я её и не узнал, такой она мне показалась жалкой, чуждой. Пиджачок, заплатанные брюки. Кургузые ботинки, дряблые шнурки – за четыре года совсем отвык, забыл, что и бывают они – шнурки на ботинках. Старая фетровая шляпа, ей лет десять уже было. Всё оставил в рюкзаке, этап – та же тюрьма, даже хуже ещё. В лагерном надо и пройти его. Снова воронок, снова запихнули в стакан, дышать нечем, не видно ничего, только вверху вертушка поворачивается.
Дорога в Потьму славится по лагерям. Мне родные рассказывали, каково по ней и в автобусе. А в воронке каково? Я ещё утром суп съел сдуру. Едва начались кочки, колдобины, подкатило к горлу, пот холодный побежал по вискам. Я стал бешено барабанить в дверь. Солдатня (ребята молодые ещё совсем) сначала отругивалась, но, видно, уловила в моем голосе что-то, испугавшее её. Машина стала, стакан с треском раздвинули. Я вывалился из машины и прямо-таки упал на землю. Меня рвало несколько минут. Кругом стоял высокий зеленый лес. Берёзы, осины, сосны. Тишина. И я, изнемогающий на земле. И солдаты вокруг. «Скорей, скорей, вставай, быстро давай, в машину». И снова пошли прыжки да толчки, да провалы, да встряски. И солдатская горкотня сквозь железную стенку – кто когда в наряд ходил да скоро ли в отпуск.
В Потьме ждала меня радость – лагерные приятели, везли их в Саранск, как меня когда-то, два года назад. Несколько сионистов, украинец, узбек. Разговоры были старые, лагерные. Сионисты говорили о еврейской проблеме, украинец – об украинской, узбек – о ценности национального вообще. Я пытался говорить о поэзии. Но понимал, что собеседникам моим она, в сущности, не нужна. Не до того им в их борьбе и судьбе. Как и миру не до того во все его времена. Грустно всё это, особенно в лагере и тюрьме, где так важно быть среди своих. Ведь кругом вышки, заборы, надзиратели, стукачи. Им-то до поэзии и подавно дела нет; а уж когда есть им до поэзии «Дело», так пиши пропало.
Несколько дней в Потьме прошли быстро. И вот столыпин. Я в отдельном закутке, как особо опасный должен быть один или со своей статьёй. Меня это устраивало. Я устал от всех. На следствии одиночество страшило меня, сейчас радовало. Из других клеток слышались разговоры. «Начальник, воды». «Начальник, в туалет надо. Начальник, ей богу, обоссусь». «Начальник, в коридор нассу, веди, не видишь, не могу больше». «Воды! Волки противные, педерасты!» Вскоре в коридоре появлялся солдат и похаживал вдоль клеток, покрикивая: «Мужики, не борзеть! Сейчас смену сдадим, поведут вас. Не ахай, не ахай, проссышься ещё, не умрёшь». Потом начиналось вождение в туалет. Любопытные зэчьи лица сквозь решетки. Трое солдат, идущие сзади. «Быстрей, быстрей, другие ждут!» Тёплая вода, бегущая, вздрагивая, в кружку, после жёсткой селёдки и твёрдого хлеба булькающая потом в животе, как в грелке. И каждые четыре часа проверка, четыре солдата в клетку – ногами на койку, где ты лежишь, туда-сюда – ничего нет – пошли. Днём ли, ночью ли – всё равно. Головой ляжешь от двери – нельзя, не положено. Только головой к двери, чтобы свет вагонный в глаза и все громы коридора прямо по голове твоей. На то этап.
Рузаевку проехали, меня не высадили. Я и рад, быстрее на место. Получил снова сухим пайком. Следующая остановка – Челябинск. Снова воронок, стакан, и началось кружение по улицам. Сквозь щёлку мелькали дома, кузова грузовиков, фигуры пешеходов. Потом замелькали домики, заборы. Заброшенным, худородным показался Челябинск из воронка. Наконец, подвезли к тюрьме, где-то, видимо, на окраине города, кинули в отстойник (тюремный распределитель). Я стоял у стены, среди других зэков. Остальные бродили туда-сюда от параши к двери, кое-кто сидел на корточках у стены. Я обратил внимание на одного, он сидел прямо на полу, в кулаке у него был зажат хлебный мякиш и он ел его прямо из кулака. По жирному чернявому лицу его была размазана дряблая улыбка. Зэки, ходившие мимо, косились на него, что-то говорили по его адресу. Я спросил, кто это. «А это Галька, сука, мы её под нары в вагоне загнали. Ишь, хлеб жрёт с пола обоссанного, у, мразь, противная, гнида». «Как Галька?» – спросил я. «Ну, Генка она, петух это, мы её на х… насаживали в зоне». Я наконец живьём видел педераста, по-лагерному – петуха. (Стукачей, между прочим, зовут козлами – причём тут бедные животные, не знаю). А то, что я видел перед собой сейчас, было не человек, но что-то жидкое, склизкое, словно бы грязь на полу. Ужаснее в жизни своей я ничего не встречал. Вот что могут люди сделать с людьми! Этот несчастный толстозадый парень был в лагере проигран в карты, или продался за кусок сала, или был попросту изнасилован, – всё бывает у бытовиков. Человека ночью хватают с постели, насилуют, и он отныне – пария, подтирка для остальных. У педерастов в лагере особые секции, свой стол в столовой, свои миски и ложки, на этапе они под нарами и не смеют нос высунуть, пока их не позовут. Администрация знает об этом, но мер не предпринимает никаких. Это происходит и по сей день, и сию минуту. Гнусный блатной мир – будь ты проклят! Все эти «суки ссученные», «падлы позорные», которые грозятся остальным всем «шнифты выстеклить», «жопу на свастику порвать»… Ну вот, вывели из отстойника, повели…
В тюрьме первым делом шмон. Маленький капитан с квадратными ушами и коротким носом придирчиво рылся в моих нехитрых пожитках. Я заявил о своей статье, о том, что положено меня содержать отдельно. Он злобно закричал: «Не хочешь с людьми – пойдёшь в подвал». Я ничего против не имел. Вели меня по коридорам прямо-таки в подземелье. Редкие камеры и длинная тёмная стена. Камеры молчали, хотя за дверью в некоторых маячил свет. Наконец, меня привели. Это был глубокий подвал. Оконце маячило у потолка. В камере было четыре койки в два этажа, столик, стул. И я один. За дверью после возни с ключами и шагов упала тишина. Только свет в потолке чуть мигал, словно разговаривая со мной. Я прилёг на одну из нижних коек и вдохнул тишину, одиночество, вечер. Потом был ужин, мысли о будущем, о недавнем прошлом.
На другой день с утра вдруг захотелось мне писать. Авторучку отняли – в тюрьме на этапе не положено, а карандаша у меня не было. Не помню, был ли бумаги листок. Не знаю почему, стал я искать карандаш в камере. Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их пружин, на батарее, под батареей, на окне, на столе, под столом. Господи, как я хотел найти его! Под каждой ножкой стола, стула, в каждой выбоине пола, снова на столе – неужели же нет? Ведь нужно же мне! И потрясён был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проёме между одной из ножек стола и крышкой его. Огрызочек этот маленький, как продолжение пальца, круглый, с толстым грифельком, с голубоватой, обшарпанной, деревянной шкуркой словно ждал меня, моего душевного моления к нему. Я долго хранил его; только в Сибири и потерял нечаянно, в КПЗ, на шмоне очередном. Несколько стихов в пути начирикал я этим карандашиком. Само его явление во многом побудило меня к сочинению этих стихов, потому что в тюрьме мне не писалось, неба не хватало. Так целый следственный год у меня почти ни строки не было. Между тем, пока я радовался карандашику, наступил обед – баланда челябинская хуже мордовской, хотя баланды эти все «хуже». Едва я покончил с ней, меня крикнули на этап, недолго же поблаженствовал я в челябинском подвале. Снова воронок, снова столыпин. На этот раз без разговоров в одиночную клетку. В путь!
Этап до Новосибирска проходил обыкновенно. Снова крики, визги, ругань, мельтешенье солдатни сквозь решетки. Тёплая вода, грубая селёдка, скудный кирпич хлеба. Иногда над мутным невиденьем оконного стекла открывали солдаты верхнюю щель – и мелькали поля, перелески, стога, стада, избушки, изредка люди, а вдалеке за всей этой картинкой – небо, с разбега метнувшееся за леса, за поля, за даль земную. Это были лучшие минуты в этапной жизни, не входившее в программу явление природы замордованному людьми человеку. Не у всех хватало сил на эту радость.
Везли двух «полосатиков», один из них был болен. Он всё время просился в туалет. Но снисхожденья ему не было. Лейтенант показался раз (мордастый ванёк в мундире), получил от полосатиков матерные проклятья и угрозы, и пропал. Солдаты либо молчали, либо, пролаяв свою ругань, уходили. Однако вскоре явились все вместе (правда, без мордастого лейтенанта), открыли клетку, в которой на верхних нарах лежали полосатики, и начали стаскивать их вниз. Здорового свалили быстро, а больной боролся, отчаянно ругаясь. «У, распроебанские волки, козлы вонючие, мрази поганые. Лейтенант, курва, где ты, блядский род, я тебя удавлю!» Обоих полосатиков уволокли куда-то по коридору, видно, в этапный карцер. Злоба этой расправы устрашила обычно шумный вагон. Тихо тарабанил и вздрагивал поезд, переваливаясь на своих утиных, железных лапах. В окнах темь мутная, намертво белесая непроглядная стена стекла – специально по-тюремному закрашенная. Чтобы не видел зэк людей и его не видели. И везли, упрятав, а то ведь кто их знает, людей. Из них ведь, не из кого другого, зэки-то и берутся. Что у них, у людей, на уме – про всех никак не узнаешь, нет таких машин марсианских, всё пока по-земному: «Расскажите всё сами, вы поможете следствию, это облегчит вашу участь, суд учтёт ваше чистосердечное раскаяние. А иначе…» И готово дело, техника старая, но верная. Но всех-то, всех не посадишь на этот стульчик, не спросишь этак вот. Так лучше и спрятать схваченного от людских глаз за железы, за мутные стекла. Пусть орёт, вопит, на решётку кидается. Усмирят. Приглушат. И не таких утихомиривали.
Привезли в Новосибирск. Поезд долго стоял на дальних переездах, в туалет не выводили, воды не давали. Вагон роптал. Наконец, подогнали с какого-то чёрного хода. Людей кругом не было. Потом прошли две женщины, из вагона посыпались крики: «Девка, покажи жопу, иди сюда, я тебя в…у» и одновременно: «Бабы, дайте папирос». Хмуро оглядываясь на наш ощеренный щёлками вагон, две эти женщины – средних лет, бедно одетые – торопливо ушли. Тем более что солдаты орали на зэков и задвигали везде окна. Запах махорки, дорожной серой неухоженности и грязного зэковского белья сразу сильнее бросился в нос. Начинало мутить тошной духотой. Вагон орал и бился, требуя открыть щели.
Я тоже кричал охране, грозил жалобами прокурору. Но всё было зря. Только когда прибыли воронки из города, нас стали высаживать. Меня вывели одним из первых. Было уже сумеречно. Как особо опасного, меня отвели в сторону и прикрепили ко мне отдельного солдата. Этот молодой парень в очках, лет девятнадцати, крепко держал меня под руку. Он был типичный студент-первокурсник, высокий, здоровый, как большинство в этом новом поколении. Очки и добродушное полное полудетское лицо придавали ему сходство с Пьером Безуховым. А держал меня он крепко, и автомат за его спиной сработал бы добротно, стоило мне чего-нибудь там затеять. Этот новейший «Пьер Безухов» живо заработал бы себе отпуск, уложив меня (их так поощряют за стрельбу по зэкам, пытающимся бежать). Так и держал меня этот солдат, пока не пришло моё время лезть в воронок. Задвинутый в стакан, я в щёлку стал наблюдать город. Он показался широким, открытым, шумным. Я впервые после лагеря видел улицы, проспекты – вернее, обрывки их, мелькающие сквозь жалюзи. Рядом в стакане кому-то было дурно, он просил солдата пересадить его, но тот – белобрысый, мужланистый – равнодушно бормотнул ему: «А мне по…ть» – и переставил автомат к другому колену. Вскоре путь кончился. Нас завели в тюрьму. Снова кинули в отстойник. Снова параша и голые стены – ходи, стой или сиди на корточках, как любят сидеть бытовики. Прислонил я рюкзак к стене, сел на него, глянул вокруг. Вдруг заскрежетали знакомым скрежетом двери – подсаживают кого-то, видно. Это в жизни зэка волнующий миг – кого же Бог пошлёт? И страшно и любопытно. Дверь отошла, и один за другим в отстойник повалили полосатики – у меня сердце захолонуло. Кавказские бешеные глаза, монгольские косые скулы, русские приземистые плечи – всего человек восемь. Но было всё, как в доброй сказке. Один из полосатиков первым делом рванулся ко мне – как тебя зовут, кто ты? Я сказал. «Очень хорошо, Толик, ничего не бойся, мы политиков уважаем, я – Магомет-чечен, это все наши ребята хорошие». «Что-нибудь везёшь с собой?» Я показал. «Нет, Толик, не возьмём, у тебя самого мало». «Возьмите, ребята, я от души, знаю, каково вам, слышал о ваших зонах». Мне вправду стало светлее вдруг, и потянуло к этим людям. И монгольские скулы (то был бурят) не страшили, и кавказские глаза согревали, а не бросали в дрожь. А ведь полосатикам есть от чего ожесточиться. Их режим – особый. Как во времена инквизиции, они обряжены в шутовскую полосатую форму, только бубенцов не хватает. Жизнь у них тяжелее, чем у всех нас. На строгом режиме одна посылка и две бандероли в год, одно личное свидание и два общих, а у них одна бандероль и одно общее свидание – и всё. Живут они в камерах, на работу их выводят в другие камеры – каторга из каторг. Зато и держат они себя, как в лагерях говорят – «в наглую», начальство кроют в бога-мать. Оно с ними старается не заводиться, к добру не приводит… Между тем, набрав бумаги, мои сотоварищи стали её жечь в раковине туалета, один держал над огнём кружку с чаем. Бумага чернела, дымилась, дым ходил по камере, ел глаза. Видно, он пополз в коридор, дверь отворилась, в отстойник ворвались менты. Кружка куда-то исчезла с моих глаз, полосатики сгрудились в кучу и на крик надзирателей отвечали пущим криком: «Ничего не знаем, иди, начальник, по-хорошему, всё будет тихо, карцер твой на фую видели». И начальники, хоть и погрозив, но сильно сбавив тон, ушли. Появилась на свет кружка, один из полосатиков голой рукой держал её кипящую у себя за спиной. Я поразился силе его духа. Чай пошёл по кругу, я отказался, отговорившись тем, что вообще не пью. Мне было жаль отнимать у ребят глоток драгоценной для них жидкости. Это их ещё больше ко мне расположило. Они смотрели на меня во все глаза, жадно расспрашивали о воле, о делах международных, обо всём, словно вчера ещё я ходил по Ленинграду, а прошло ведь уже 4 года моего лагерного жития. Они же волокли срока большие – кто 10, кто 15, кто 20 лет. Почти все сидели за убийство, один, армянин имел семь убийств на счету и был помилован по личному слову Брежнева, до которого добралась его старенькая, жившая в горном ауле мать. Когда пришла пора расстаться с полосатиками, мне и впрямь стало грустно. Меня повели в камеру.
Она была в подвале, но не таком глубоком, как в Челябинске. Камера оказалась длинной, как коридор, на удивление большой. Стояло три койки, но я-то был один! И снова я обрадовался этому. За окном темнел вечер. Стекло было разбито, и поддувало холодным ветром. Но я холода не боялся, я ходил по камере и радовался, какая она большая. За дверью громыхали порой сапоги надзирателя, но я теперь почти не обращал внимания на глазок. Я ходил и думал, что эта камера велика, как прогулочный дворик, а так как из окна дует, то я словно бы на прогулке. Кстати, в Челябинске прогулочный дворик оказался самым большим из всех виденных мной. Туда даже воробьи залетали и глазели на меня, чирикая, очевидно, в мой адрес. Здесь, правда, воробьёв не было. Дуло из окна все сильнее, и темнело. Наступало похолодание, да и Сибирь дышала, видать, своим студёным нутром. Я стал слегка мерзнуть. Пора было уже спать. Делать нечего, я прилёг на утлый матрас. Железо койки звякнуло подо мной. Лампа вверху светилась тупо, бледно, тоскливо. Укрывшись хиленьким одеялом, я попытался уснуть. Многолетний зэковский навык сработал – это мне удалось. Зэку ведь уснуть – первая радость, поесть – вторая. А всё остальное – срок, который у каждого свой и который каждого давит. Проснулся я от собственной дрожи и зубовного лязганья. Меня трясло всего с головы до ног. Я ничего не мог с собой поделать. Я вскочил с постели, стал приседать, бегать, ходить. Предстояла бессонная ночь в ходьбе, в беготне, в дрожи и зуб на зуб непопадании. Пробегав полчаса или час (а была глубокая ночь уже), я стал барабанить и тулумбасить в дверь. Ногами, кулаками, нажимать на звонок, кричать благим матом. Наконец замаячили шаги и, бетонней все стуча, приблизились. Кормушка открылась. «Чего блажишь? В карцер захотел?» «Здесь в камере мороз, температура ниже нуля! Это издевательство! Переведите меня в другую немедленно!» Кормушка закрылась. Вскоре, приложив ухо к двери, я услышал голос этого надзирателя. Он по телефону толковал начальству: «В четвёртой камере замерзает. Да, там окно выбито. Говорили же, что не надо сажать в эту камеру. Конечно, уже третий или четвертый случай. Если он до утра дубаря врежет, нам за него не поздоровится». Разговор окончился. Кормушка открылась, заспанное лицо надзирателя показалось в проеме. «В 6 утра переведём. Сейчас некому». «Это безобразие. Здесь ледник». «До шести утра нет никого». Кормушка закрылась.
Теперь большая камера уже не радовала меня. Я бегал и ходил по ней, вглядываясь в бледнеющий за окном отрывок неба. Мне чудилось, что моё упорное вглядывание в эту бледную насупленную ещё ночным омрачением даль как-то раздвигает, рассветляет её, приближает к утру, к свету и моему освобождению от неубывающего этого холода, от этой заброшенности в леденящем сибирском застенке. А за окном бледнело едва-едва. А я всё ходил, бегал, приседал, дрожал, злился, подходил к двери, слушал, но ничего не слышно было. И когда я совсем уже отчаялся, внезапно стукнули шаги у двери, она открылась, ржаво скрежеща, и высокий офицер в очках сказал мне: «Пойдёмте». За ним стоял ночной мой надзиратель, чей телефонный звонок вызволил меня из этой каменной ямы. Мы с офицером шли вдвоём, надзиратель остался на своём месте. Сквозь тюрьму, как показалось мне, сквозь переходы, какие-то перегибы коридоров, лестниц, тупиков мы вышли, наконец, по-моему, несколькими этажами выше в ярко освещённый коридор. Здесь была бельевая, я увидел двух-трёх бабёнок из хозобслуги, они с жадным зэчьим любопытством посмотрели на меня. Вдруг офицер остановился и стал открывать не замеченную мной дверь в стене напротив бельевой. «Входите». Дверь замкнулась. Я не успел даже ничего сказать. Это был настоящий пенал, поставленный вертикально. Метров шести-семи высотой и метр в ширину. Не ляжешь, только сесть можно, и то по-турецки! Вверху, прямо над головой в потолке круглая, яркая лампа. Ни окон, ни вентиляции. Тёплый спёртый воздух. И хоть стало мне тепло, и я сразу ожил, но кошмарность сооружения, куда меня бросили, потрясла меня. Это был словно сюрреальный сон или космическая галлюцинация. А проще говоря, была тюрьма в полном своём явном виде. Я кое-как уселся на полу, прислонился головой к стене. Нажал на звонок. Явилась тут же надзирательница, молодая ещё. «Долго мне здесь мучиться?» «В 9 часов придёт начальство, решит, куда вас. Без них не имеем права». «Здесь дышать нечем». «Подождите, скоро придут». «Дайте воды». «Сейчас». Напившись, я попробовал уснуть, несмотря на духоту и яркий свет. Такова усталость зэковская, что она сквозь всю дьявольщину тюрьмы продирается в сон. Я уснул, проснулся часа через полтора с тяжёлой головой, всем дыханьем своим чувствуя, как не хватает воздуха. Ощущение даже слабого удушья способно довести до сумасшествия. Но надо было терпеть, время шло к девяти. И я терпел. Наконец, дверь открылась. Ещё весь словно стиснутый адским этим пеналом, я шёл за ментом, уже не мечтая об одиночке. Что-нибудь одно: либо люди, либо холод. Уж лучше люди.
Я помню, мы поднялись ещё на этаж и пошли по коридору, густо населённому камерами. Из верхних щелей маячил свет, раздавался особенный, нестройный гул, в котором угадывались зэковские голоса – это был гул тюремного мира, столь теперь близкого мне. У одной из камер остановились, снова огромный ключ в руке у мента, дверь открывается, и я вхожу в камеру. В такой я оказался впервые. Большая широкая камера, вся полная людей. Внизу, вверху густо. Отовсюду лица, пятки, спины человеческие. Я сразу приметил две-три морды, у которых на лбу было написано, кто они такие. Опущенные животные рты, срезанные лобные скосы, маленькие пустые глазки. Я увидел нескольких татар, державшихся вместе, говоривших по-своему, увидел и пару добрых молодцев деревенского вида; самодовольно восседал в углу, петушино откинув голову, представитель кавказского племени – армянин или грузин. Было немало и молодёжи, всего человек тридцать. Два стола, параша, на которую то и дело кто-то взбирался. На стене у двери надписи: статья такая-то, пробыли столько-то, столько-то человек. Самое малое сидели здесь все дней по 8, 10, 15. От такой информации стало тошно. Но что было делать? Камера встретила меня довольно равнодушно. «Политический – какие сейчас политические? Вот при Сталине!» «Не меньше семи лагерей? – Вот как. Что? За стихи? Бывает же». Это были большей частью воры, грабители, убийцы, насильники, хулиганы, спекулянты и даже один алиментщик весьма добродушного вида и говорливый, как воробей. Принесли завтрак. Я обратил внимание, что в камеру дали грязные ложки и зэки сами стали их мыть. «Почему так?» Не успевают, мол. «Нет, ребята, это надругательство, надо в обед отказаться, пусть дают чистые ложки». Мне удалось возмутить человек пять – шесть, потом десять – пятнадцать. Самая мрачная братия, восседавшая на нарах, в смуте участия не принимала и глядела без одобрения. Меня больше всего поддерживал алиментщик, и татары кивнули мне ободряюще. Забренчал, забулькал в коридоре обед. Открылась и наша кормушка. Я отказался от грязных ложек, заявил протест, потребовал начальства. Мне что-то пробурчали, кормушка закрылась. Обед пошёл бренчать и булькать дальше. Минут десять мы в камере шумели и обсуждали свинство администрации. Прошло ещё минут десять. С верхних нар стал доноситься ропот. «Оставят совсем без жратвы, мы не такое видели, чего золупаться с ними, мы за двадцать лет нагляделись, и не таких говорков успокаивали. Ишь, чистоплюи нашлись, раньше руками бы голыми выловил эту баланду из миски, а теперь ложки не подошли». Я увидел, что всё больше хмурых тяжёлых взглядов сходится на мне. Уже и поддерживающие меня вначале примолкли, первый самый из них – алиментщик. За дверью было тихо, обед удалился в другие коридоры. Сердце у меня упало. Не знаю уж, чем бы всё это кончилось, но вдруг совсем близко раздался знакомый бренч, стук, бульканье, открылась кормушка и в неё подали чистые ложки. А за ними миски с баландой. «Ну, вот, – не удержался я, – а уже струсили. Зато теперь, как люди, сможем поесть». Сверху невнятно промычали что-то, но я был счастлив. Моя взяла. Я расценивал этот случай в тот миг как политическую борьбу за достоинство, как наглядный урок уголовникам что такое политические. Как бы там ни было, уважение ко мне повысилось в камере, и так было уже до конца. Один только кавказец поводил в мою сторону недобрым взглядом своих смутных набрякших глаз.
А камера напоминала Содом и Гоморру. Дым ходил волнами, курило зараз человек двадцать. На параше постоянно кто-нибудь восседал. Разговоры в разных углах камеры то вспыхивали, то затихали. Ходить практически нельзя было. Читать тоже, да и нечего. Голова моя болела. Время шло медленно, я томился, и надписи на камерной стене наводили на меня всё большее унынье. Несколько дней в этой камере показались мне веком. Говорить было не с кем. Я слушал. А разговоры не прекращались, как и курение.
– Хорошая там тюрьма – выходить не хотелось.
– А ты, что же – 122-я? Ну, я же вижу, что ты бич, я же вижу. И сколько лет бичуешь? А? По глазам вижу, что бич.
– А она лицо в сторону отворачивает, лежит, как кукла. Что ж я – механически должен, что ли? А люди мне сказали, он в школе с ней и работает. Я взял нож старый, какой попался, пошёл, иду по коридору к учительской – а они навстречу, рядом. У меня свет в глазах замутился, я с ножом на него, она заслонять, я её, потом его. Восемь лет дали, скостили до шести. Сейчас на химию.
– Говорят, другая химия хуже лагеря.
– Бывает. И менты, и бараки, и вышки. А где-нибудь попух – снова в лагерь, а химия эта х… не в счёт.
Слушай, дарагой, пажалуста, не харкай сюда, пажалуста.