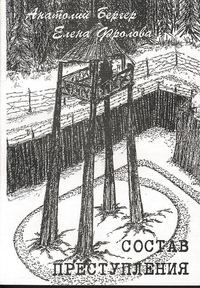Горесть неизреченная (сборник)
Она была в подвале, но не таком глубоком, как в Челябинске. Камера оказалась длинной, как коридор, на удивление большой. Стояло три койки, но я-то был один! И снова я обрадовался этому. За окном темнел вечер. Стекло было разбито, и поддувало холодным ветром. Но я холода не боялся, я ходил по камере и радовался, какая она большая. За дверью громыхали порой сапоги надзирателя, но я теперь почти не обращал внимания на глазок. Я ходил и думал, что эта камера велика, как прогулочный дворик, а так как из окна дует, то я словно бы на прогулке. Кстати, в Челябинске прогулочный дворик оказался самым большим из всех виденных мной. Туда даже воробьи залетали и глазели на меня, чирикая, очевидно, в мой адрес. Здесь, правда, воробьев не было. Дуло из окна всё сильнее, и темнело. Наступало похолодание, да и Сибирь дышала, видать, своим студёным нутром. Я стал слегка мерзнуть. Пора было уже спать. Делать нечего, я прилёг на утлый матрас. Железо койки звякнуло подо мной. Лампа вверху светилась тупо, бледно, тоскливо. Укрывшись хиленьким одеялом, я попытался уснуть. Многолетний зэковский навык сработал – это мне удалось. Зэку ведь уснуть – первая радость, поесть – вторая. А всё остальное – срок, который у каждого свой и который каждого давит. Проснулся я от собственной дрожи и зубовного лязганья. Меня трясло всего с головы до ног. Я ничего не мог с собой поделать. Я вскочил с постели, стал приседать, бегать, ходить. Предстояла бессонная ночь в ходьбе, в беготне, в дрожи и зуб на зуб непопадании. Пробегав полчаса или час (а была глубокая ночь уже), я стал барабанить и тулумбасить в дверь. Ногами, кулаками, нажимать на звонок, кричать благим матом. Наконец замаячили шаги и, бетонней всё стуча, приблизились. Кормушка открылась. «Чего блажишь? В карцер захотел?» «Здесь в камере мороз, температура ниже нуля! Это издевательство! Переведите меня в другую немедленно!» Кормушка закрылась. Вскоре, приложив ухо к двери, я услышал голос этого надзирателя. Он по телефону толковал начальству: «В четвёртой камере замерзает. Да, там окно выбито. Говорили же, что не надо сажать в эту камеру. Конечно, уже третий или четвертый случай. Если он до утра дубаря врежет, нам за него не поздоровится». Разговор окончился. Кормушка открылась, заспанное лицо надзирателя показалось в проеме. «В 6 утра переведём. Сейчас некому». «Это безобразие. Здесь ледник». «До шести утра нет никого». Кормушка закрылась.
Теперь большая камера уже не радовала меня. Я бегал и ходил по ней, вглядываясь в бледнеющий за окном отрывок неба. Мне чудилось, что моё упорное вглядывание в эту бледную насупленную ещё ночным омрачением даль как-то раздвигает, рассветляет её, приближает к утру, к свету и моему освобождению от неубывающего этого холода, от этой заброшенности в леденящем сибирском застенке. А за окном бледнело едва-едва. А я всё ходил, бегал, приседал, дрожал, злился, подходил к двери, слушал, но ничего не слышно было. И когда я совсем уже отчаялся, внезапно стукнули шаги у двери, она открылась, ржаво скрежеща, и высокий офицер в очках сказал мне: «Пойдёмте». За ним стоял ночной мой надзиратель, чей телефонный звонок вызволил меня из этой каменной ямы. Мы с офицером шли вдвоём, надзиратель остался на своём месте. Сквозь тюрьму, как показалось мне, сквозь переходы, какие-то перегибы коридоров, лестниц, тупиков мы вышли, наконец, по-моему, несколькими этажами выше в ярко освещённый коридор. Здесь была бельевая, я увидел двух-трёх бабёнок из хозобслуги, они с жадным зэчьим любопытством посмотрели на меня. Вдруг офицер остановился и стал открывать не замеченную мной дверь в стене напротив бельевой. «Входите». Дверь замкнулась. Я не успел даже ничего сказать. Это был настоящий пенал, поставленный вертикально. Метров шести-семи высотой и метр в ширину. Не ляжешь, только сесть можно, и то по-турецки! Вверху, прямо над головой в потолке круглая, яркая лампа. Ни окон, ни вентиляции. Тёплый спёртый воздух. И хоть стало мне тепло, и я сразу ожил, но кошмарность сооружения, куда меня бросили, потрясла меня. Это был словно сюрреальный сон или космическая галлюцинация. А проще говоря, была тюрьма в полном своём явном виде. Я кое-как уселся на полу, прислонился головой к стене. Нажал на звонок. Явилась тут же надзирательница, молодая ещё. «Долго мне здесь мучиться?» «В 9 часов придёт начальство, решит, куда вас. Без них не имеем права». «Здесь дышать нечем». «Подождите, скоро придут». «Дайте воды». «Сейчас». Напившись, я попробовал уснуть, несмотря на духоту и яркий свет. Такова усталость зэковская, что она сквозь всю дьявольщину тюрьмы продирается в сон. Я уснул, проснулся часа через полтора с тяжёлой головой, всем дыханьем своим чувствуя, как не хватает воздуха. Ощущение даже слабого удушья способно довести до сумасшествия. Но надо было терпеть, время шло к девяти. И я терпел. Наконец, дверь открылась. Ещё весь словно стиснутый адским этим пеналом, я шёл за ментом, уже не мечтая об одиночке. Что-нибудь одно: либо люди, либо холод. Уж лучше люди. Я помню, мы поднялись ещё на этаж и пошли по коридору, густо населённому камерами. Из верхних щелей маячил свет, раздавался особенный, нестройный гул, в котором угадывались зэковские голоса – это был гул тюремного мира, столь теперь близкого мне. У одной из камер остановились, снова огромный ключ в руке у мента, дверь открывается, и я вхожу в камеру. В такой я оказался впервые. Большая широкая камера, вся полная людей. Внизу, вверху густо. Отовсюду лица, пятки, спины человеческие. Я сразу приметил две-три морды, у которых на лбу было написано, кто они такие. Опущенные животные рты, срезанные лобные скосы, маленькие пустые глазки. Я увидел нескольких татар, державшихся вместе, говоривших по-своему, увидел и пару добрых молодцев деревенского вида; самодовольно восседал в углу, петушино откинув голову, представитель кавказского племени – армянин или грузин. Было немало и молодёжи, всего человек тридцать. Два стола, параша, на которую то и дело кто-то взбирался. На стене у двери надписи: статья такая-то, пробыли столько-то, столько-то человек. Самое малое сидели здесь все дней по 8, 10, 15. От такой информации стало тошно. Но что было делать? Камера встретила меня довольно равнодушно. «Политический – какие сейчас политические? Вот при Сталине!» «Не меньше семи лагерей? – Вот как. Что? За стихи? Бывает же». Это были большей частью воры, грабители, убийцы, насильники, хулиганы, спекулянты и даже один алиментщик весьма добродушного вида и говорливый, как воробей. Принесли завтрак. Я обратил внимание, что в камеру дали грязные ложки и зэки сами стали их мыть. «Почему так?» Не успевают, мол. «Нет, ребята, это надругательство, надо в обед отказаться, пусть дают чистые ложки». Мне удалось возмутить человек пять-шесть, потом десять-пятнадцать. Самая мрачная братия, восседавшая на нарах, в смуте участия не принимала и глядела без одобрения. Меня больше всего поддерживал алиментщик, и татары кивнули мне ободряюще. Забренчал, забулькал в коридоре обед. Открылась и наша кормушка. Я отказался от грязных ложек, заявил протест, потребовал начальства. Мне что-то пробурчали, кормушка закрылась. Обед пошёл бренчать и булькать дальше. Минут десять мы в камере шумели и обсуждали свинство администрации. Прошло ещё минут десять. С верхних нар стал доноситься ропот. «Оставят совсем без жратвы, мы не такое видели, чего золупаться с ними, мы за двадцать лет нагляделись, и не таких говорков успокаивали. Ишь, чистоплюи нашлись, раньше руками бы голыми выловил эту баланду из миски, а теперь ложки не подошли». Я увидел, что всё больше хмурых тяжёлых взглядов сходится на мне. Уже и поддерживающие меня вначале примолкли, первый самый из них – алиментщик. За дверью было тихо, обед удалился в другие коридоры. Сердце у меня упало. Не знаю уж, чем бы всё это кончилось, но вдруг совсем близко раздался знакомый бренч, стук, бульканье, открылась кормушка и в неё подали чистые ложки. А за ними миски с баландой. «Ну, вот, – не удержался я, – а уже струсили. Зато теперь, как люди, сможем поесть». Сверху невнятно промычали что-то, но я был счастлив. Моя взяла. Я расценивал этот случай в тот миг как политическую борьбу за достоинство, как наглядный урок уголовникам что такое политические. Как бы там ни было, уважение ко мне повысилось в камере, и так было уже до конца. Один только кавказец поводил в мою сторону недобрым взглядом своих смутных набрякших глаз.
А камера напоминала Содом и Гоморру. Дым ходил волнами, курило зараз человек двадцать. На параше постоянно кто-нибудь восседал. Разговоры в разных углах камеры то вспыхивали, то затихали. Ходить практически нельзя было. Читать тоже, да и нечего. Голова моя болела. Время шло медленно, я томился, и надписи на камерной стене наводили на меня всё большее унынье. Несколько дней в этой камере показались мне веком. Говорить было не с кем. Я слушал. А разговоры не прекращались, как и курение.
– Хорошая там тюрьма – выходить не хотелось.
– А ты, что же – 122-я? Ну, я же вижу, что ты бич, я же вижу. И сколько лет бичуешь? А? По глазам вижу, что бич.
– А она лицо в сторону отворачивает, лежит, как кукла. Что ж я, механически должен, что ли? А люди мне сказали, он в школе с ней и работает. Я взял нож старый, какой попался, пошёл, иду по коридору к учительской – а они навстречу, рядом. У меня свет в глазах замутился, я с ножом на него, она заслонять, я её, потом его. Восемь лет дали, скостили до шести. Сейчас на химию.
– Говорят, другая химия хуже лагеря.
– Бывает. И менты, и бараки, и вышки. А где-нибудь попух – снова в лагерь, а химия эта х… не в счёт.
– Слушай, дарагой, пажалуста, не харкай сюда, пажалуста.
– Ну что, питерянин, ешь селёдку, у меня ещё с этапа осталась (это ко мне). Давно я в Питере не был. Ты, говоришь, политический. X… это всё, детство. Сидишь за тетрадки. И не погулял на воле, как надо. Я? Я и волю, и тюрьму знаю. Туда-сюда. Зато есть что вспомнить. А на воле скучно. Делать там нечего – с работы домой, на верёвочке мотайся всю жизнь.
– Ой, б… где ж я тебя видел (это снова вокруг). Ой, б… да не в Гусь-Хрустальном ли, а? Нет? А чаю пожевать в заначке нету, а? Эх, где ж я тебя видел?
– Эй, политический, давай твою шляпу на ушанку махнём, а? Хочу в шляпе походить на химии. Тебе ж в Красноярский край, там холодно. Смотри, моя шапка крепкая. Велика? X…, ушьёшь. Ну давай, а, давай. Эх, я думал, хоть политические – люди. Раз в жизни хотел шляпу поносить. Не везёт.
– А этот вот парень в групповом изнасиловании участвовал. Их в лагерях зовут – взломщики лохматого сейфа. Не любят их по лагерям.
– А я себе два спутника в х… вживил, пришёл в лагерь, вдул петуху, он, сука, три дня прыгал, корячился, за жопу держался. А как выходить – вырезал. Пожалел бабу. Испортишь ведь её, никто больше не нужен будет, только давай, чтоб х… рогатый. А мне с ней жить ещё, да ей мне передачи носить…
– А я тебе скажу: все эти апостолы – они же все заключённые, как мы. Ты почитай, они все заключённые. Им всем потом вышак дали. Ты почитай, почитай.
– Ну что, начальник, косяка давишь, у нас все дома. Ужин давай, ментовская морда!
И так продолжалось час за часом дня четыре. И когда внезапно открылась дверь и какой-то чин по бумажке прочёл в числе прочих пяти-шести фамилий мою, я возликовал. Скорей бы, скорей. К чёрту эту арифметику – день за три, тут за день вылущат так, что в месяц не залатаешься. В путь, в путь. В Красноярск.
В этом этапе я чувствовал, как устал уже от всей грязной, по-особенному тревожной, дорожной жизни. И лагерь помянешь лихом, а уж этап…
Перед отправкой из тюрьмы, как всегда, был шмон. Солдаты действовали грубо, и я потребовал соблюдения правил, в которых сказано, что наказание не ставит целью унижение заключённого. Я часто тыкал всей ментовской своре в нос эти слова из кодекса, но помогало мало. Хотя и не возражали, даже оправдывались. А делали, как хотели.
И теперь вмешался лейтенант, молодой, полнолицый, глаза с поволокой. «А что это у вас – витамины? Не положено. Для здоровья нужно? Так мы для вашего же здоровья. Ещё отравитесь, а нам отвечать. Нет-нет, по правилам нельзя. Вы же законы знаете, вон как говорите. И ложки нельзя из нержавейки, выдадут вам алюминиевые в Красноярске, не волнуйтесь. Выбросьте ложки (это к солдатам)!» И в таком духе продолжался этот шмон перед отправкой. Наконец снова вагон, снова отстук, выстук, вздрог, покачка, раскачка, свист, гул, рокот. Снова топотанье конвоя в коридоре, зэчий перекрик в клетках, щели над мутью стекла, а в щелях – небо и земля, зелень и синева, в щелях – воля. Конвой в этот раз попался неплохой. Два солдата из трёх прямо-таки симпатизировали мне. Даже жаловались на своего сержанта. «Ты политический? За стихи? А что, пишешь и теперь? Прочти что-нибудь». Я прочел несколько осенних строк, несколько старых, армейских ещё. Понравилось им на удивленье сильно. «Тебе ж печататься надо! Такие стихи, я осень увидел! Хорошо». Щель напротив моей клетки почти всё время была открыта. Я смотрел на Сибирь и находил её совсем русской, просторной и тихой. Так прошло несколько дней, пока не добрались до Красноярска. Довольно быстро пришли за нами воронки. Солдат из красноярского конвоя сразу удивил тем, что предложил пачку чая за наличные – покупайте, мол. Такой торгашеский разворот красноярской охраны был мне несколько внове. Впрочем, я, в отличие от некоторых даже политзэков, был далёк от подобных дел. Чего Бог не дал, того не дал. Между тем привезли в тюрьму. Меня снова повели в подвал и снова в одиночку. На этот раз с окнами всё было в порядке. Я предвкушал одиночество. Первый вечер так и было. Но тюрьма имела недостаток – отсутствие канализации, по крайней мере, в подвальных этажах. Приходилось выносить парашу самому. И вот утром я поднял парашу, чтобы отнести её, и отшатнулся. Под ней лежала дохлая мышь. Этих зверей, да ещё сестер их крыс, я боюсь, как огня. Я вызвал надзирателя. Пришла молодая женщина в форме и тоже дёрнулась вся. «И я их боюсь, сейчас позову девочек из хозобслуги». Девчонка-зэчка из хозобслуги со смехом подхватила мышь за хвост и сделала несколько рывков в мою сторону и даже в сторону надзирательницы. Мы с омерзением откачнулись. После чего они удалились, а я остался в камере, но уже в некотором беспокойстве – соседство мышей мне не улыбалось. Днём водили на оправку, и я заметил в гальюне несколько тёмных юрких теней, метнувшихся по углам, едва я вошёл. А вечером меня, как назло, перевели в другую камеру, как раз напротив гальюна, и начались мои мытарства. В камеру то и дело заскакивали то одна, то две мыши и нахально скакали у стола и около кроватей. Я отломал ножку от стола и попытался заткнуть тоненькую щель между полом и дверью. Но эти чёртовы мыши в эту щель, куда и мизинца не просунешь, проникали, как резиновые, и нагло прыгали, катались и мелькали у двери. Я стучал, топотал на них, они шустрым катом темно промелькивали под дверь, а меня, как магнитом, тянуло смотреть туда, и через минуту-две, вправду, появлялся хвостатый комок, цепко скользил по отвесной двери наверх, скатывался вниз, крутился у двери, норовил ближе к столу. Я стал бить в дверь, звонить, кричать. Огромный надзиратель, наконец, явился на шум. «Здесь антисанитарные условия, мыши в камере». «Вот невидаль – мыши. Не съедят они тебя. А ещё мужик». С этими словами проклятый амбал и ушёл. Я остался с мышами. Не помню, как я и уснул, забравшись на самую верхнюю койку. К великому счастью моему, наутро подняли на этап – а вот куда, я теперь и не знал. В отстойнике шёл разговор о страшных ссылках, где хуже ещё, чем в лагере, где лесоповал и лесосплав. Один парень сказал мне: «Вот ты выйдешь, а денег-то нет. Ясное дело, кого-нибудь опять на уши поставишь». Я разубеждать его не стал.
Этап из Красноярска продолжался всего сутки. Но для меня он тянулся бесконечно, да я и не знал тогда, сколько он продлится. Особенно в этот раз раздражали проверки, которыми одолевал конвой каждые несколько часов. Когда среди ночи они опять ворвались в камеру, стали дубасить сапогами по нарам, по полу, косить прямо в глаза ярким жестоким фонарем, я не выдержал. «Вы палачи, вы пытаете, как фашисты. Ничего не положено – просто издевательство. Куда я денусь из этой клетки? Просто ведёте себя, как фашисты». Солдаты – здоровые, высокие парни во главе с сержантом, который очень походил на былинного богатыря – пошипели на меня: «Ладно, говорите вы много, всё по закону» – и ушли дальше, и я слышал их топот и стук в других клетках. Но утром сержант заявился к моей клетке. «Что же вы, гражданин, нас фашистами назвали, палачами. Какие мы палачи?» Его добродушное лицо Добрыни выражало огорчение, но говорил он с некоторой ядовитостью. «Вы-то сами день рождения Гитлера отмечали, а нас же ещё фашистами ругаете». «Я не отмечал, посмотрите в деле внимательно». «Да мы посмотрели». «Нет, уж посмотрите как следует, я за свои стихи здесь». Сержант ушёл. Однако в следующий раз, проходя, он оглянулся, посмотрел на меня внимательно, а через несколько минут, опять проходя, остановился. «Ну что, гражданин, скоро на место». «Да, видно, так. А куда везут, не знаете?» «Сейчас схожу, посмотрю». Он ушёл и вскоре появился вновь. «В Курагинский район». «Спасибо вам». Я крикнул по вагону – что за район, Курагинский? «Да хороший, – послышались голоса, – не холодно и работа всякая есть». А поезд шёл всё дальше, всё больше углубляясь в Сибирь, в которой предстояло пробыть без малого два года. Потом на остановке привели в вагон хакаса, он, по его словам, ударил кнутом пастуха за какую-то обиду, и теперь ему грозила 206 статья, года два срока. Размашистый разлёт скул, широкие глаза, крутая посадка плеч – так вот они каковы, хакасы, исконные сибирские жители! И впервые за весь этап ко мне в клетку вдруг подсадили политического – это был украинец из 19-го лагеря, я его там видел издали, а знакомы не были. В клетке этапной и познакомились. Срок у него – 6 лет лагеря и 5 ссылки, и туда же, в Курагинский. Это меня обрадовало, не одному лихо мыкать первое время (а позже я ждал в ссылку жену).
И вот остановка, нас выгружают. Газик уже ждёт нас, тоже клетка на колёсах. Я ещё сдуру поздоровался с местными ментами. Мне, конечно, не ответили. И затрясся газик по камням и колдобинам Курагинским. Повезли нас в КПЗ. Камера, как коридор, без окон, дыра вентиляции дрожит в стене. По стене нары, в углу параша. Да три зэка по хулиганке – местные. Один на старуху-соседку вилку поднял, когда пришла учить его уму-разуму пьяного в дым, другой бичевал, третий – пацанёнок лет семи – грабил ларьки на предмет поедания конфет и пития лимонада. Его назавтра и выпустили. С другими двумя мы жили мирно. Целых четыре дня – с 29 апреля по 3 мая – нас держали в этой тёмной норе. Менты вели себя по-разному. Один издевался открыто, орал в кормушку: «Убивать вас надо, политиков сраных, возжаются с вами, лимонятся. Я бы вас вывез в лес и расстрелял на х…» В другой раз он орал: «Гитлер был молодец, правда? – Ты, лысый (это ко мне). Молодец, я его всего одобряю, так и надо, под корень всю нечисть». Он особенно лютовал по утрам, сгонял с параши, злобно ругался.
Но и эти капэзешные дни прошли. К вечеру 3 мая 1973 года нас выпустили из КПЗ. Денег у нас не было (на этапе не положено), прислать должны были из лагеря. И вот, заплатанные, грязные, обременённые рюкзаками и чемоданами, мы вышли на улицу. Кончилась Мордовия лагерная, началась Сибирь ссыльная. Но об этом уже в другой раз.
* * *Не расплескать бы лагерную кружку,Передавая другу по несчастью,Пока на вышке нас берут на мушку,Собачий клык готов порвать на части.Дымится чай или, верней, заварка,До воли далеко, проверка скоро,И лагерные звёзды светят ярко,Обламываясь о зубцы забора.1989* * *В умывальной враз на бетонТяжко рухнул и умер он —В сырость, грязь, окурки, плевки.Ржавой лампы ржавая дрожьМрачно замершие зрачкиОсветила – страх, невтерпёж:…Как бы в них отразились вдругДесятилетья – за годом годТе ж заборы, вышки вокруг,Лай собачий ночь напролёт.То в столовку с ложкой в руке,То обратно шагал в барак,И дымил махрой в уголке —Что ни день – вот так, только так.О свободе грезил сквозь сонДа подсчитывал, знай, годки —В умывальной враз на бетонТяжко рухнул – в сырость, в плевки.Лгали сны – пропал ни за грош,Кончить срок в земле суждено.Ржавой лампы ржавая дрожь.В неподвижных зрачках темно.1971, Мордовия* * *В проходе тёмном лампочка сочится,И койки двухэтажные торчат.Усталого дыханья смутный чад,Солдатские замаянные лица.То вздох, то храп, то стон, то тишина.Вдруг скрежет двери – входит старшина:«Дивизион – подъём!» И в миг с размахуСлетают в сапоги. Ремни скрипят.Но двое-трое трёхгодичных спят,А молодёжь старается со страху.«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.О, время, ну когда же ты пройдёшь!И словно мановеньем чародея,Прошло.Решётка, нары, и в углуПараша. Снова лампочка сквозь мглу,А за оконцем вышки. Боже, где я?Заборы, лай, тулупы да штыки.Шлифуй футляры, умирай с тоски.Кругом разноязыкая неволя,Я на семнадцатом, на третьем – Коля.А ты, Россия, ты-то на каком?А, может, ты на вышке со штыком?Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!Вернулся. Долгожданная пора.Но не могу сегодня от вчераЯ отличить никак. Одно и то же.1986Сибирь
Рабочие – разрушители старого дома – жгли во дворе костёр. Рядом стоящие высокие деревья они огородили досками, и деревья приобрели музейный вид. Дом был чёрен, гол, обшарпан, окна зияли навылет, в некоторых торчали осколки недобитого стекла. А в садике двора напротив дома хозяйничала зима, ветви деревьев были увешаны снегом и белы, а стволы темны и ещё сумрачней от соседствующей белизны. И между пропадающим, смотрящим в гроб домом и живым ещё садом в тихом белении января – горел костёр. Он широко и внезапно взвивался с земли, огненное вздымание и опадание текло среди поваленных перекарёженных досок, разбитых ящиков, щепья и мусора, текло косматое и длинное полыханье, набегая кверху, то вдруг стелясь по-змеиному по земле, слышно дыша и неубывно сверкая, то враз накренив будто живой рукой стенку ящика, то однообразно стоя в воздухе на одном месте, насылая в высоту искры, мелькающие и гинущие с глаз долой в одно мгновенье. Всё это происходило здесь, в моём городе, в начале 1977-го, а вернулся я из ссылки в конце 1974-го. Причём тут ссылка, лагерь, родной дом? Не знаю. Но вначале было слово – в это я верю. Пусть же это будет слово о костре.

О Сибири вспоминать не в печаль. Хоть и ссыльная, и чужая, а вошла в душу. Первое, что увидел вольным уже взглядом – Тубу, горящую на солнце, и ловкую моторку, стучащую по весеннему речному блеску. Река Туба. Ну, что ж. А была река – Нева.
Туба, Кызыр, Кызыл и Омыл сливаются в одну протоку, как бы трубу, по-татарски Тубу. Так мне рыбак рассказывал. Сидели на брёвнах у воды, а он мне: «У каждой рыбы свой фасон спасенья. Таймень ищет вымоину, под глыбу головой, а невод выше идёт. Щука – на пробой смекает, рвёт невод прыжком. Сиг – поверх прыгает, сигает, и ночью – хоть глаз выколи, а слышно – сиг пошёл. Налим найдёт тетиву хвостом, подлез под неё – переворачивается и ушёл. Кто их учил – а вот, знают».
Как мы с Гришей блуждали в первый день по Курагино – тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе хвалёное гостеприимство русского народа – воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше – «теперь не война и хлеба не жалко, а уж воды да соли – подавно, их и жалеть нельзя – грех». Но я тогда не в заплатанном брёл с мешком за плечами.
Но вот опять изба – хозяйка, худенькая, востроглазая, тонким голосом – «А вы ссыльные будете?» – «Ссыльные, ссыльные, как узнали?»
– «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает – как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе – поменьше. «Сколько же у вас дочек?» – «Шестеро – от 6 до 19-ти, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на высылке с войны ещё».
Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте» – рука крупная, тяжёлая, наработанная. – «Якоб, а это жена моя Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки – пальчики оближешь – это после тюремного-то! Гриша мне шепнул – несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то – «Нам, когда гость не доест – обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.