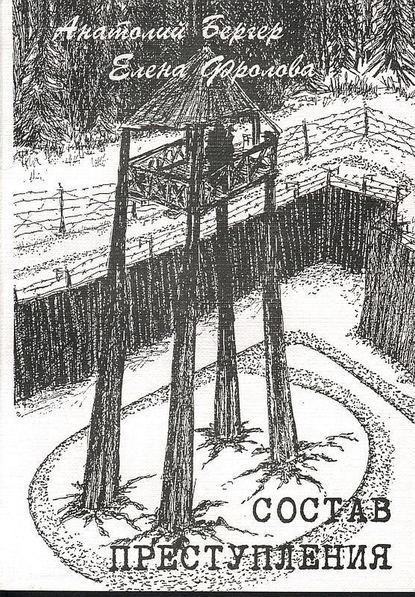По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Состав преступления (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самое худшее было то, что шли часы допроса, а Василий Фёдорович всё не вел протокол. Что-то записывал на клочках бумажки, помечал в каких-то углах. Я попыталась поспорить:
– Василий Фёдорович, вы напрасно это делаете, я журналист, я не подпишу протокол, если он будет написан не моими словами.
– Не волнуйтесь, Елена Александровна, это черновик, мы с Вами всё согласуем.
К концу восьмого часа он, наконец, начал писать. И у меня было время подумать о том, что может случиться со мной. Лагеря я тогда совсем не боялась – наверное, по неведению или потому, что мне казалось – там я ближе к Толе. Пытки? Страшно. Не знаю, смогла ли бы выдержать? Но поскольку этого никто о себе не знает – решила на эту тему не думать. А вот что представлялось мне тогда ужасным – дурдом. Постоянное присутствие больных людей, издевательство санитаров, «лечение»… Наверное, сломалась бы, не выдержала. Так что надо сделать всё, чтобы этого не допустить. Какой угодно лагерь, только не дурдом.
Позже, читая книгу генерала Григоренко, я ещё раз поразилась собственной наивности – как будто от тебя здесь хоть что-то зависит. И потому с особым уважением всегда отношусь к тем, кто достойно смог выдержать пытку сумасшедшим домом.
Но пока я размышляла подобным образом, Василий Фёдорович всё-таки дописал протокол и дал мне его для знакомства. Расчёт был прост: после восьми часов допроса человек дуреет.
Читаю протокол. То, что написан он не моими словами – это естественно, но уже на это не реагируешь. Но стоп… Два места в протоколе изложены совершенно противно тому, что я говорила.
– Вот видите, Василий Фёдорович, я же Вас предупреждала. Надо было писать, когда я говорила.
– Не волнуйтесь, Елена Александровна, мы в конце напишем поправки.
– Ну, нет. Вы же не будете читать мужу весь протокол. Прочтёте это место, он решит, что я сошла с ума. А мне совсем не хочется, чтобы он так обо мне думал.
– За кого Вы нас принимаете?
– Василий Фёдорович, эти два места должны быть вычеркнуты. Иначе я не подпишу протокол.
– Ах так! Сейчас я вызову прокурора и всё…
– Хоть весь Большой Дом. Мы просидим с Вами сутки, двое, неделю, но этот протокол я не подпишу.
И видя, что он всё распаляет себя и в то же время не знает, что предпринять, я сказала примиряюще:
– Василий Фёдорович, что мы с Вами играем в детские игры. Вы же прекрасно знаете, что я протокол не подпишу.
– Детские игры? Но тогда что же мы сделаем?
– Вычеркнем и в конце напишем: вычеркнуто, потому что я этого не говорила.
С тем я и ушла из Большого Дома. Окончился мой второй допрос.
Следователь, который вёл дело Толика, Алексей Иванович Лесников был среди них всех самым умным и хитрым. Он уже не допускал проколов, не ставил себя в глупое положение.
Во время прошлого допроса Алексей Иванович как бы невзначай зашёл в кабинет, и сейчас напомнил.
– Когда Вы сражались с Василием Фёдоровичем…
– Сражалась?
– Ну, беседовали, беседовали…
Он сразу стал писать протокол под мою диктовку и не давал мне возможности заниматься подробной трактовкой стихов. Читала, значит, читала, значит, было распространение. Эх, если бы не наша юридическая безграмотность! Как было бы просто отвечать: «Не читала», но я продолжала свой «симпозиум литературоведов».
Из новых идей я попыталась с Алексеем Ивановичем провести такую: я утверждала, и надо сказать, это было абсолютной правдой, что той подборки, которую мне предъявляло ГБ, никогда не существовало. Толик никогда не читал стихи, упирая на их политическое звучание. Каждый раз, приходя к нему, друзья слушали то, что было написано недавно. А здесь – я не очень ещё владела их демагогией и всё же пыталась объяснить Алексею Ивановичу, что этот «криминал» следователи составили сами из тенденциозных соображений.
Теперь я понимаю, что и эти доводы абсолютно ничего не значили для следователя. Дело уже создавалось, видимости того, что они пресекли преступную деятельность, для суда было достаточно. Всё остальное – уже детали. Но расколоть он меня всё же пытался.
Завёл разговор о единственных печатных подборках, которые им удалось найти. Печатала стихи Толика моя тогдашняя приятельница Матильда на пишущей машинке моего однокурсника Аркадия Соколова. Матильду один раз вызвали на допрос в ГБ, и с той поры она исчезла – не позвонила, не пришла. Что поразительно – я даже случайно её больше ни разу не встретила, как будто страх, испытанный ею в ГБ, сделал её в дальнейшем невидимой. Но Алексей Иванович напомнил мне о Матильде:
– С какой целью готовилась подборка?
– Для журнала.
– Ну что Вы, Елена Александровна. Вы так и скажите своей подруге: «Матильдинька, это всё я предназначала для печати».
Матильдинька! Я, действительно, её так называла. Слушали разговоры? Она сказала? Но не думать об этом, не думать…
– А если мы вызовем Аркадия Соколова?
Я всё время знала, что могу позволить себе только один взрыв. Даже если он будет искусственным, всё равно ненависть прорвётся и будет труднее контролировать себя после. Но в эту минуту такую вспышку я себе разрешила:
– Ну, конечно, вызывайте. Если человек разрешил своей однокурснице воспользоваться своей машинкой – вызывайте. Как же можно допустить, чтобы между людьми были хорошие отношения, сохранялось доверие?!
– Не волнуйтесь, Елена Александровна, мы Соколова не вызовем.
Теперь, когда прошло столько лет, я думаю, почему я тогда так сражалась. Соколов впоследствии проявил себя как стукач. Но ведь не могла же я чувствовать это, не могла…
Успокоив меня таким образом, Алексей Иванович, безусловно, проявил себя как психолог. Он вообще понимал людей, неплохо использовал эти знания в своей костоломной работе.
Шёл допрос, шло время. Вдруг в трубе что-то загремело, как будто посыпались камни. И мне так захотелось, чтобы Большой Дом рухнул, пусть бы даже нас засыпало вместе с ним.
Лесников поднял голову от протокола:
– Старый дом. Разрушается.
– Да, малосимпатичное здание.
– А мне тут нравится.
– Дело вкуса.
Перешли на разговоры. Я не подтверждала их ни на одном допросе.
– Елена Александровна, расскажите мне о разговоре между Вами, Вашим мужем и Андреем Бабушкиным о новой революции в России.
– Никогда ни от своего мужа, ни от Андрея Бабушкина я не слышала ничего подобного.
– Эх, Елена Александровна, как Вы неосторожны! Ну, подумайте ещё, ну, скажите хотя бы, что не помните.
– Алексей Иванович, запишите, пожалуйста: никогда ни от своего мужа, ни от Андрея Бабушкина я не слышала разговоров о новой революции.
– Рисковый вы человек, Елена Александровна! Ну, как же Вам отказать в такой просьбе – запишу.
– Василий Фёдорович, вы напрасно это делаете, я журналист, я не подпишу протокол, если он будет написан не моими словами.
– Не волнуйтесь, Елена Александровна, это черновик, мы с Вами всё согласуем.
К концу восьмого часа он, наконец, начал писать. И у меня было время подумать о том, что может случиться со мной. Лагеря я тогда совсем не боялась – наверное, по неведению или потому, что мне казалось – там я ближе к Толе. Пытки? Страшно. Не знаю, смогла ли бы выдержать? Но поскольку этого никто о себе не знает – решила на эту тему не думать. А вот что представлялось мне тогда ужасным – дурдом. Постоянное присутствие больных людей, издевательство санитаров, «лечение»… Наверное, сломалась бы, не выдержала. Так что надо сделать всё, чтобы этого не допустить. Какой угодно лагерь, только не дурдом.
Позже, читая книгу генерала Григоренко, я ещё раз поразилась собственной наивности – как будто от тебя здесь хоть что-то зависит. И потому с особым уважением всегда отношусь к тем, кто достойно смог выдержать пытку сумасшедшим домом.
Но пока я размышляла подобным образом, Василий Фёдорович всё-таки дописал протокол и дал мне его для знакомства. Расчёт был прост: после восьми часов допроса человек дуреет.
Читаю протокол. То, что написан он не моими словами – это естественно, но уже на это не реагируешь. Но стоп… Два места в протоколе изложены совершенно противно тому, что я говорила.
– Вот видите, Василий Фёдорович, я же Вас предупреждала. Надо было писать, когда я говорила.
– Не волнуйтесь, Елена Александровна, мы в конце напишем поправки.
– Ну, нет. Вы же не будете читать мужу весь протокол. Прочтёте это место, он решит, что я сошла с ума. А мне совсем не хочется, чтобы он так обо мне думал.
– За кого Вы нас принимаете?
– Василий Фёдорович, эти два места должны быть вычеркнуты. Иначе я не подпишу протокол.
– Ах так! Сейчас я вызову прокурора и всё…
– Хоть весь Большой Дом. Мы просидим с Вами сутки, двое, неделю, но этот протокол я не подпишу.
И видя, что он всё распаляет себя и в то же время не знает, что предпринять, я сказала примиряюще:
– Василий Фёдорович, что мы с Вами играем в детские игры. Вы же прекрасно знаете, что я протокол не подпишу.
– Детские игры? Но тогда что же мы сделаем?
– Вычеркнем и в конце напишем: вычеркнуто, потому что я этого не говорила.
С тем я и ушла из Большого Дома. Окончился мой второй допрос.
Следователь, который вёл дело Толика, Алексей Иванович Лесников был среди них всех самым умным и хитрым. Он уже не допускал проколов, не ставил себя в глупое положение.
Во время прошлого допроса Алексей Иванович как бы невзначай зашёл в кабинет, и сейчас напомнил.
– Когда Вы сражались с Василием Фёдоровичем…
– Сражалась?
– Ну, беседовали, беседовали…
Он сразу стал писать протокол под мою диктовку и не давал мне возможности заниматься подробной трактовкой стихов. Читала, значит, читала, значит, было распространение. Эх, если бы не наша юридическая безграмотность! Как было бы просто отвечать: «Не читала», но я продолжала свой «симпозиум литературоведов».
Из новых идей я попыталась с Алексеем Ивановичем провести такую: я утверждала, и надо сказать, это было абсолютной правдой, что той подборки, которую мне предъявляло ГБ, никогда не существовало. Толик никогда не читал стихи, упирая на их политическое звучание. Каждый раз, приходя к нему, друзья слушали то, что было написано недавно. А здесь – я не очень ещё владела их демагогией и всё же пыталась объяснить Алексею Ивановичу, что этот «криминал» следователи составили сами из тенденциозных соображений.
Теперь я понимаю, что и эти доводы абсолютно ничего не значили для следователя. Дело уже создавалось, видимости того, что они пресекли преступную деятельность, для суда было достаточно. Всё остальное – уже детали. Но расколоть он меня всё же пытался.
Завёл разговор о единственных печатных подборках, которые им удалось найти. Печатала стихи Толика моя тогдашняя приятельница Матильда на пишущей машинке моего однокурсника Аркадия Соколова. Матильду один раз вызвали на допрос в ГБ, и с той поры она исчезла – не позвонила, не пришла. Что поразительно – я даже случайно её больше ни разу не встретила, как будто страх, испытанный ею в ГБ, сделал её в дальнейшем невидимой. Но Алексей Иванович напомнил мне о Матильде:
– С какой целью готовилась подборка?
– Для журнала.
– Ну что Вы, Елена Александровна. Вы так и скажите своей подруге: «Матильдинька, это всё я предназначала для печати».
Матильдинька! Я, действительно, её так называла. Слушали разговоры? Она сказала? Но не думать об этом, не думать…
– А если мы вызовем Аркадия Соколова?
Я всё время знала, что могу позволить себе только один взрыв. Даже если он будет искусственным, всё равно ненависть прорвётся и будет труднее контролировать себя после. Но в эту минуту такую вспышку я себе разрешила:
– Ну, конечно, вызывайте. Если человек разрешил своей однокурснице воспользоваться своей машинкой – вызывайте. Как же можно допустить, чтобы между людьми были хорошие отношения, сохранялось доверие?!
– Не волнуйтесь, Елена Александровна, мы Соколова не вызовем.
Теперь, когда прошло столько лет, я думаю, почему я тогда так сражалась. Соколов впоследствии проявил себя как стукач. Но ведь не могла же я чувствовать это, не могла…
Успокоив меня таким образом, Алексей Иванович, безусловно, проявил себя как психолог. Он вообще понимал людей, неплохо использовал эти знания в своей костоломной работе.
Шёл допрос, шло время. Вдруг в трубе что-то загремело, как будто посыпались камни. И мне так захотелось, чтобы Большой Дом рухнул, пусть бы даже нас засыпало вместе с ним.
Лесников поднял голову от протокола:
– Старый дом. Разрушается.
– Да, малосимпатичное здание.
– А мне тут нравится.
– Дело вкуса.
Перешли на разговоры. Я не подтверждала их ни на одном допросе.
– Елена Александровна, расскажите мне о разговоре между Вами, Вашим мужем и Андреем Бабушкиным о новой революции в России.
– Никогда ни от своего мужа, ни от Андрея Бабушкина я не слышала ничего подобного.
– Эх, Елена Александровна, как Вы неосторожны! Ну, подумайте ещё, ну, скажите хотя бы, что не помните.
– Алексей Иванович, запишите, пожалуйста: никогда ни от своего мужа, ни от Андрея Бабушкина я не слышала разговоров о новой революции.
– Рисковый вы человек, Елена Александровна! Ну, как же Вам отказать в такой просьбе – запишу.