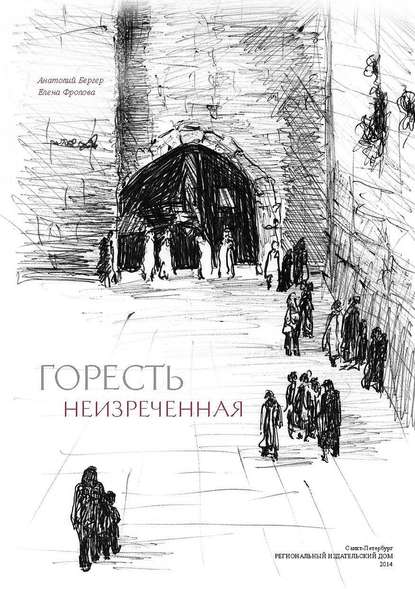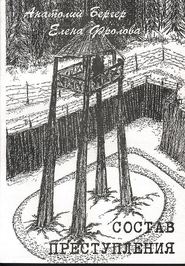По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Горесть неизреченная (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обламываясь о зубцы забора.
1989
* * *
В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул и умер он —
В сырость, грязь, окурки, плевки.
Ржавой лампы ржавая дрожь
Мрачно замершие зрачки
Осветила – страх, невтерпёж:…
Как бы в них отразились вдруг
Десятилетья – за годом год
Те ж заборы, вышки вокруг,
Лай собачий ночь напролёт.
То в столовку с ложкой в руке,
То обратно шагал в барак,
И дымил махрой в уголке —
Что ни день – вот так, только так.
О свободе грезил сквозь сон
Да подсчитывал, знай, годки —
В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул – в сырость, в плевки.
Лгали сны – пропал ни за грош,
Кончить срок в земле суждено.
Ржавой лампы ржавая дрожь.
В неподвижных зрачках темно.
1971, Мордовия
* * *
В проходе тёмном лампочка сочится,
И койки двухэтажные торчат.
Усталого дыханья смутный чад,
Солдатские замаянные лица.
То вздох, то храп, то стон, то тишина.
Вдруг скрежет двери – входит старшина:
«Дивизион – подъём!» И в миг с размаху
Слетают в сапоги. Ремни скрипят.
Но двое-трое трёхгодичных спят,
А молодёжь старается со страху.
«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.
О, время, ну когда же ты пройдёшь!
И словно мановеньем чародея,
Прошло.
Решётка, нары, и в углу
Параша. Снова лампочка сквозь мглу,
А за оконцем вышки. Боже, где я?
Заборы, лай, тулупы да штыки.
Шлифуй футляры, умирай с тоски.
Кругом разноязыкая неволя,
Я на семнадцатом, на третьем – Коля.
А ты, Россия, ты-то на каком?
А, может, ты на вышке со штыком?
Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!
Вернулся. Долгожданная пора.
Но не могу сегодня от вчера
Я отличить никак. Одно и то же.
1986
Сибирь
Рабочие – разрушители старого дома – жгли во дворе костёр. Рядом стоящие высокие деревья они огородили досками, и деревья приобрели музейный вид. Дом был чёрен, гол, обшарпан, окна зияли навылет, в некоторых торчали осколки недобитого стекла. А в садике двора напротив дома хозяйничала зима, ветви деревьев были увешаны снегом и белы, а стволы темны и ещё сумрачней от соседствующей белизны. И между пропадающим, смотрящим в гроб домом и живым ещё садом в тихом белении января – горел костёр. Он широко и внезапно взвивался с земли, огненное вздымание и опадание текло среди поваленных перекарёженных досок, разбитых ящиков, щепья и мусора, текло косматое и длинное полыханье, набегая кверху, то вдруг стелясь по-змеиному по земле, слышно дыша и неубывно сверкая, то враз накренив будто живой рукой стенку ящика, то однообразно стоя в воздухе на одном месте, насылая в высоту искры, мелькающие и гинущие с глаз долой в одно мгновенье. Всё это происходило здесь, в моём городе, в начале 1977-го, а вернулся я из ссылки в конце 1974-го. Причём тут ссылка, лагерь, родной дом? Не знаю. Но вначале было слово – в это я верю. Пусть же это будет слово о костре.
О Сибири вспоминать не в печаль. Хоть и ссыльная, и чужая, а вошла в душу. Первое, что увидел вольным уже взглядом – Тубу, горящую на солнце, и ловкую моторку, стучащую по весеннему речному блеску. Река Туба. Ну, что ж. А была река – Нева.
Туба, Кызыр, Кызыл и Омыл сливаются в одну протоку, как бы трубу, по-татарски Тубу. Так мне рыбак рассказывал. Сидели на брёвнах у воды, а он мне: «У каждой рыбы свой фасон спасенья. Таймень ищет вымоину, под глыбу головой, а невод выше идёт. Щука – на пробой смекает, рвёт невод прыжком. Сиг – поверх прыгает, сигает, и ночью – хоть глаз выколи, а слышно – сиг пошёл. Налим найдёт тетиву хвостом, подлез под неё – переворачивается и ушёл. Кто их учил – а вот, знают».
Как мы с Гришей блуждали в первый день по Курагино – тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе хвалёное гостеприимство русского народа – воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше – «теперь не война и хлеба не жалко, а уж воды да соли – подавно, их и жалеть нельзя – грех». Но я тогда не в заплатанном брёл с мешком за плечами.
Но вот опять изба – хозяйка, худенькая, востроглазая, тонким голосом – «А вы ссыльные будете?» – «Ссыльные, ссыльные, как узнали?»
– «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает – как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе – поменьше. «Сколько же у вас дочек?» – «Шестеро – от 6 до 19-ти, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на высылке с войны ещё».
Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте» – рука крупная, тяжёлая, наработанная. – «Якоб, а это жена моя Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки – пальчики оближешь – это после тюремного-то! Гриша мне шепнул – несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то – «Нам, когда гость не доест – обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.
Постелили нам в комнате Якоба – на полу разостлали шубу мохнатую, ватники, а сверху чистые простыни, подушки, одеяла – честь честью. Двум зэкам с улицы, а за стеной девчонки спят – Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля – высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится, а за ними поменьше народец: Лида (это та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) – трудолюбивая, мамина дочка, Катя – с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша – сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает.
Об этой семье много можно говорить, за два сибирских года видел я от них добра и тепла – на всю жизнь хватит.
Когда вышли мы с Гришей на курагинские улицы, не было у нас ни копейки. Определили нам работу на лесозаводе, столярить. А доехать до этого лесозавода на краю Курагино не на что. Предлагали нам в милиции 20 копеек в долг – мы не взяли. Так пешком и поплелись, часа полтора шли.
Лесозавод этот стоял на берегу Тубы на самом конце Курагино. Здесь Туба огибала островки, поросшие берёзками, и уносилась вдаль среди безлюдных лесных берегов.
А лесозавод, хоть стоял у воды, погибал от жажды и пил спиртное, не просыхая. Делали тут чаще всего гробы, но табуретки и столы тоже. Меня определили в ученики столяра – 12 рублей в месяц, а в учителя мне дали местного народного заседателя – ражего молодца по фамилии Шевченко. Тут же по цеху крутились ещё двое, вечно выпрашивая на опохмелку. Клонилась в углах над верстаком молодёжь, мешая размашистые кудри со стружками. Я этой новой мушкетёрской моды тогда не знал и с любопытством примерял к широким крупным русским лицам кудри до плеч – то ли Иванушка из леса вышел, то ли крепостной мужик 1812-го года с оголодавшего пленного француза парик содрал и на себя напялил.
Между тем Шевченко стал объяснять мне азы столярной науки. Очень скоро, почти сразу я понял, что и табуретки даже не сколочу, как надо. Попробовал обтесать ножку – испортил. Рубанком водить, пожалуй, мне понравилось – нравилось выгонять из дерева кудрявую лёгкую стружку, пахнущую свежестью и чистотой. Однако из стружки мебель не сошьёшь. Было ясно, что отсюда лучше уходить. Гриша – так сразу перебрался кочегаром на хлебозавод. Я не знал, куда податься.
На третий день наши милые немцы устроили нас на квартиру к своей соседке – обоих в одну комнату. Но сынок этой женщины – пожарник из милиции – воспротивился. К счастью, Фрида тут же нашла мне комнату, и я перебрался, а Гриша подыскал себе комнату недалеко от вокзала в бараке, благо хлебозавод был рядом.
Я не знал, как мне быть с работой. С лесозавода уйти я решил бесповоротно. Единственно, что брезжило реально – работа грузчика. Но у меня спондилёз, нельзя подымать тяжести, делать резкие движения. И всё же я решил рискнуть. Клин клином, как говорят. Было два варианта – грузчик сельпо и грузчик райпо. В райпо заработки больше – там вагоны, но там тяжелей грузы. В сельпо только продукты, развозить со складов по магазинам Курагино и нескольких близлежащих деревень. Сначала я обратился в сельпо. Тогдашний директор – немолодой человек с умным худым лицом – пожалел, что не нужно ему, и посоветовал обратиться к бригадиру рапповских грузчиков Андрею Дуракову. Фамилия эта меня развеселила, но когда я увидел её обладателя, лучше было не смеяться. Коренастый, весь крепкий, ладный, как гриб-боровик, он лицом до мелочи походил на Жана Габена, да и повадкой и взглядом тоже. Услышав мои предложения, он медленно и несуетно осмотрел меня, видно, всё прикинул, оценил и отказал. И спасибо ему – мне пришлось пару раз потом работать с райповскими, и это работа лошадиная, тут надо быть крепышом, вроде самого Дуракова. Я вернулся к директору сельпо. Он подумал, посоветовался с экспедитором – женщиной на вид очень деловой, и меня приняли. Главный довод был – не пьёт, работать будет, ничего, втянется. Так я попал в грузчики.
Хозяйка избы, где я снял комнату, была белоруска. Она сразу после войны подалась в Сибирь за своим любовником, который ещё в поезде переметнулся к другой бабе. Что ж, не ворочаться же. И осела тётя Надя в селе Курагино, обзавелась избой, огородом. Мужа так и не нажила. Один сын остался в Белоруссии, другой женился и жил в Туве в Шагонаре. Тётя Надя – баба хитрая и жадная, но по-сибирски рассыпчатая на пословицу и поговорку. Это меня с ней примиряло. Притом она, хотя и по-своему, но верила в Бога и соблюдала праздники. Мат с молитвой пополам вылетал из её уст, но это было смешно, а не дурно. Вообще, чем больше я узнавал Сибирь по людям, по природе её, тем больше она мне нравилась. Чтобы не описывать всё день за днем – буду вспоминать те эпизоды, о которых хочется сказать словом. Так ведь и жизнь движется, и память живёт, а ежедневность пусть питает перо своим неубывным воссозданием самой себя.
1989
* * *
В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул и умер он —
В сырость, грязь, окурки, плевки.
Ржавой лампы ржавая дрожь
Мрачно замершие зрачки
Осветила – страх, невтерпёж:…
Как бы в них отразились вдруг
Десятилетья – за годом год
Те ж заборы, вышки вокруг,
Лай собачий ночь напролёт.
То в столовку с ложкой в руке,
То обратно шагал в барак,
И дымил махрой в уголке —
Что ни день – вот так, только так.
О свободе грезил сквозь сон
Да подсчитывал, знай, годки —
В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул – в сырость, в плевки.
Лгали сны – пропал ни за грош,
Кончить срок в земле суждено.
Ржавой лампы ржавая дрожь.
В неподвижных зрачках темно.
1971, Мордовия
* * *
В проходе тёмном лампочка сочится,
И койки двухэтажные торчат.
Усталого дыханья смутный чад,
Солдатские замаянные лица.
То вздох, то храп, то стон, то тишина.
Вдруг скрежет двери – входит старшина:
«Дивизион – подъём!» И в миг с размаху
Слетают в сапоги. Ремни скрипят.
Но двое-трое трёхгодичных спят,
А молодёжь старается со страху.
«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.
О, время, ну когда же ты пройдёшь!
И словно мановеньем чародея,
Прошло.
Решётка, нары, и в углу
Параша. Снова лампочка сквозь мглу,
А за оконцем вышки. Боже, где я?
Заборы, лай, тулупы да штыки.
Шлифуй футляры, умирай с тоски.
Кругом разноязыкая неволя,
Я на семнадцатом, на третьем – Коля.
А ты, Россия, ты-то на каком?
А, может, ты на вышке со штыком?
Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!
Вернулся. Долгожданная пора.
Но не могу сегодня от вчера
Я отличить никак. Одно и то же.
1986
Сибирь
Рабочие – разрушители старого дома – жгли во дворе костёр. Рядом стоящие высокие деревья они огородили досками, и деревья приобрели музейный вид. Дом был чёрен, гол, обшарпан, окна зияли навылет, в некоторых торчали осколки недобитого стекла. А в садике двора напротив дома хозяйничала зима, ветви деревьев были увешаны снегом и белы, а стволы темны и ещё сумрачней от соседствующей белизны. И между пропадающим, смотрящим в гроб домом и живым ещё садом в тихом белении января – горел костёр. Он широко и внезапно взвивался с земли, огненное вздымание и опадание текло среди поваленных перекарёженных досок, разбитых ящиков, щепья и мусора, текло косматое и длинное полыханье, набегая кверху, то вдруг стелясь по-змеиному по земле, слышно дыша и неубывно сверкая, то враз накренив будто живой рукой стенку ящика, то однообразно стоя в воздухе на одном месте, насылая в высоту искры, мелькающие и гинущие с глаз долой в одно мгновенье. Всё это происходило здесь, в моём городе, в начале 1977-го, а вернулся я из ссылки в конце 1974-го. Причём тут ссылка, лагерь, родной дом? Не знаю. Но вначале было слово – в это я верю. Пусть же это будет слово о костре.
О Сибири вспоминать не в печаль. Хоть и ссыльная, и чужая, а вошла в душу. Первое, что увидел вольным уже взглядом – Тубу, горящую на солнце, и ловкую моторку, стучащую по весеннему речному блеску. Река Туба. Ну, что ж. А была река – Нева.
Туба, Кызыр, Кызыл и Омыл сливаются в одну протоку, как бы трубу, по-татарски Тубу. Так мне рыбак рассказывал. Сидели на брёвнах у воды, а он мне: «У каждой рыбы свой фасон спасенья. Таймень ищет вымоину, под глыбу головой, а невод выше идёт. Щука – на пробой смекает, рвёт невод прыжком. Сиг – поверх прыгает, сигает, и ночью – хоть глаз выколи, а слышно – сиг пошёл. Налим найдёт тетиву хвостом, подлез под неё – переворачивается и ушёл. Кто их учил – а вот, знают».
Как мы с Гришей блуждали в первый день по Курагино – тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе хвалёное гостеприимство русского народа – воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше – «теперь не война и хлеба не жалко, а уж воды да соли – подавно, их и жалеть нельзя – грех». Но я тогда не в заплатанном брёл с мешком за плечами.
Но вот опять изба – хозяйка, худенькая, востроглазая, тонким голосом – «А вы ссыльные будете?» – «Ссыльные, ссыльные, как узнали?»
– «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает – как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе – поменьше. «Сколько же у вас дочек?» – «Шестеро – от 6 до 19-ти, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на высылке с войны ещё».
Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте» – рука крупная, тяжёлая, наработанная. – «Якоб, а это жена моя Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки – пальчики оближешь – это после тюремного-то! Гриша мне шепнул – несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то – «Нам, когда гость не доест – обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.
Постелили нам в комнате Якоба – на полу разостлали шубу мохнатую, ватники, а сверху чистые простыни, подушки, одеяла – честь честью. Двум зэкам с улицы, а за стеной девчонки спят – Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля – высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится, а за ними поменьше народец: Лида (это та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) – трудолюбивая, мамина дочка, Катя – с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша – сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает.
Об этой семье много можно говорить, за два сибирских года видел я от них добра и тепла – на всю жизнь хватит.
Когда вышли мы с Гришей на курагинские улицы, не было у нас ни копейки. Определили нам работу на лесозаводе, столярить. А доехать до этого лесозавода на краю Курагино не на что. Предлагали нам в милиции 20 копеек в долг – мы не взяли. Так пешком и поплелись, часа полтора шли.
Лесозавод этот стоял на берегу Тубы на самом конце Курагино. Здесь Туба огибала островки, поросшие берёзками, и уносилась вдаль среди безлюдных лесных берегов.
А лесозавод, хоть стоял у воды, погибал от жажды и пил спиртное, не просыхая. Делали тут чаще всего гробы, но табуретки и столы тоже. Меня определили в ученики столяра – 12 рублей в месяц, а в учителя мне дали местного народного заседателя – ражего молодца по фамилии Шевченко. Тут же по цеху крутились ещё двое, вечно выпрашивая на опохмелку. Клонилась в углах над верстаком молодёжь, мешая размашистые кудри со стружками. Я этой новой мушкетёрской моды тогда не знал и с любопытством примерял к широким крупным русским лицам кудри до плеч – то ли Иванушка из леса вышел, то ли крепостной мужик 1812-го года с оголодавшего пленного француза парик содрал и на себя напялил.
Между тем Шевченко стал объяснять мне азы столярной науки. Очень скоро, почти сразу я понял, что и табуретки даже не сколочу, как надо. Попробовал обтесать ножку – испортил. Рубанком водить, пожалуй, мне понравилось – нравилось выгонять из дерева кудрявую лёгкую стружку, пахнущую свежестью и чистотой. Однако из стружки мебель не сошьёшь. Было ясно, что отсюда лучше уходить. Гриша – так сразу перебрался кочегаром на хлебозавод. Я не знал, куда податься.
На третий день наши милые немцы устроили нас на квартиру к своей соседке – обоих в одну комнату. Но сынок этой женщины – пожарник из милиции – воспротивился. К счастью, Фрида тут же нашла мне комнату, и я перебрался, а Гриша подыскал себе комнату недалеко от вокзала в бараке, благо хлебозавод был рядом.
Я не знал, как мне быть с работой. С лесозавода уйти я решил бесповоротно. Единственно, что брезжило реально – работа грузчика. Но у меня спондилёз, нельзя подымать тяжести, делать резкие движения. И всё же я решил рискнуть. Клин клином, как говорят. Было два варианта – грузчик сельпо и грузчик райпо. В райпо заработки больше – там вагоны, но там тяжелей грузы. В сельпо только продукты, развозить со складов по магазинам Курагино и нескольких близлежащих деревень. Сначала я обратился в сельпо. Тогдашний директор – немолодой человек с умным худым лицом – пожалел, что не нужно ему, и посоветовал обратиться к бригадиру рапповских грузчиков Андрею Дуракову. Фамилия эта меня развеселила, но когда я увидел её обладателя, лучше было не смеяться. Коренастый, весь крепкий, ладный, как гриб-боровик, он лицом до мелочи походил на Жана Габена, да и повадкой и взглядом тоже. Услышав мои предложения, он медленно и несуетно осмотрел меня, видно, всё прикинул, оценил и отказал. И спасибо ему – мне пришлось пару раз потом работать с райповскими, и это работа лошадиная, тут надо быть крепышом, вроде самого Дуракова. Я вернулся к директору сельпо. Он подумал, посоветовался с экспедитором – женщиной на вид очень деловой, и меня приняли. Главный довод был – не пьёт, работать будет, ничего, втянется. Так я попал в грузчики.
Хозяйка избы, где я снял комнату, была белоруска. Она сразу после войны подалась в Сибирь за своим любовником, который ещё в поезде переметнулся к другой бабе. Что ж, не ворочаться же. И осела тётя Надя в селе Курагино, обзавелась избой, огородом. Мужа так и не нажила. Один сын остался в Белоруссии, другой женился и жил в Туве в Шагонаре. Тётя Надя – баба хитрая и жадная, но по-сибирски рассыпчатая на пословицу и поговорку. Это меня с ней примиряло. Притом она, хотя и по-своему, но верила в Бога и соблюдала праздники. Мат с молитвой пополам вылетал из её уст, но это было смешно, а не дурно. Вообще, чем больше я узнавал Сибирь по людям, по природе её, тем больше она мне нравилась. Чтобы не описывать всё день за днем – буду вспоминать те эпизоды, о которых хочется сказать словом. Так ведь и жизнь движется, и память живёт, а ежедневность пусть питает перо своим неубывным воссозданием самой себя.