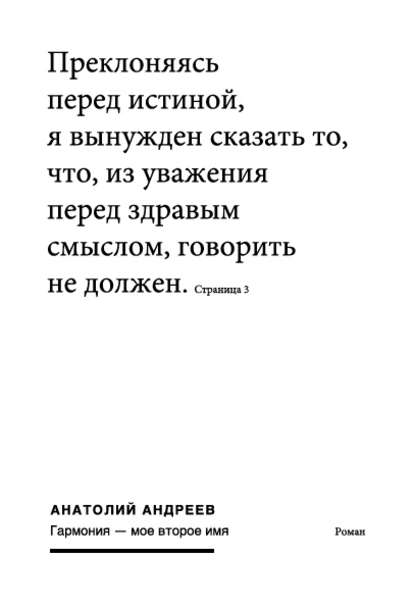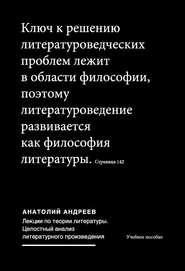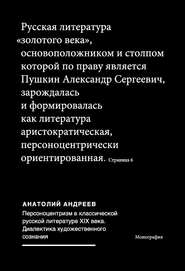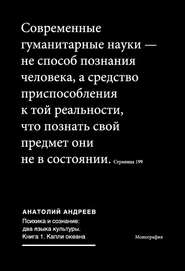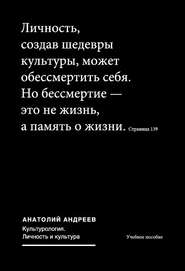По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гармония – моё второе имя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сила воли плюс характер, Германн. Ты думаешь, эту шпану можно укротить чем-нибудь еще? Да только с броневичка! Свинцовым веером! Иосиф Виссарионович, бессмертный Йосик, наследник великого Ульянова-Ленина, в чем-то глубоко прав. Бей своих, чтобы чужие боялись. Мне наплевать, курят ученики или нет. Здесь дело не в табаке, а в принципе. Мои приказания должны выполняться, и тогда я работаю шепотом, засучив рукава белой манишки. Маргарита орет и трескается на части – и толку никакого. Я уйду из этой школы – и все развалится. Все в этой школе держится на моем кеде, вот на этом куске резины. Усек?
– Может, все и так. Только… Гуманизма хотелось бы побольше. А крови поменьше.
– Что-с, как говаривал милостивый государь Достоевский? Ась? Запомни: ты в зверинце, укротить который можно только силой. Или они тебя сожрут. Они меня просят, сами просят, заметь, умоляют, и я их бью – потому что если их не бить, они сожрут сами себя.
– Получается, вы благодетель.
– Получатся, я им нужен. Половина тех, кого ты видел сегодня в спортзале, через пару лет будут зону топтать. Чтобы этого не случилось, их надо бить святым кулаком по окаянной шее. Регулярно. Но силой надо пользоваться с умом. Надо бить так, чтобы они тебе еще и руки целовали. Это уже высшее мастерство, однако. Учись у Йосика. А начинать надо… Короче, бей в живот, делай ситуацию один на один – и бей. И без свидетелей, и без следов. Живот: самое удобное место. Говорю как профессионал. Тогда все будет все шито-крыто. Но если ударишь при свидетелях или по роже, зону топтать будешь ты… Понял? Вот и вся педагогика. А рассуждать, вежливо стучаться в их маленькие горячие сердца и затуманенные головки… Не смеши меня. Я хочу тебя уважать.
– Какая-то пессимистическая педагогика получается.
– Реалистическая! – Юрий Борисыч, обращаясь к Герману, поднял указательный палец правой руки вверх (получилось – один «горячий») и сам рассмеялся своей шутке.
– Спасибо за урок, Учитель.
Тот сделал вид, что не понял шутки.
А может, он ее и в самом деле не понял. Он просто не принимал шутки на эту святую для него тему.
Они спустились в подвал и были встречены ревом восторга и аплодисментами, словно мегазвезды или космонавты, долетевшие до самого Солнца и, неопалимые, вдруг представшие пред землянами.
– Вот вы где!
– А мы вас заждались!
– Мужчины у нас на вес золота!
– Юрочка!
Юрий Борисыч был явно в своей стихии. Атмосфера всеобщего обожания для мессии, спустившегося в каземат, – вот что по-настоящему волновало ему кровь.
– Талгат Ибрагимыч! Изобрази «Камаринскую», – раскатисто прогудел Учитель, вальяжно разваливаясь рядом с Маргаритой во главе стола.
– Я не Ибрагимыч, я Ахатович, – мирно отбивался музрук.
– Что-с? Ах, да, Ибрагимыч у нас Остап. Я тебя перепутал с Бендером. Кстати, Германн, единственная книга, которую стоит читать (и то – на сон грядущий) – «Двенадцать стульев». Рекомендую. Все стальное – хлам. В том числе – «Пиковая дама».
– А Достоевский? – капризно взмолилась Маргарита.
– У Достоевского хорош только «Золотой теленок».
– Это же Ильф, Ильф! – заржало Шкло Мастацкае, впервые, кажется, проявив энтузиазм вовсе не гражданского толка.
– Ильф, а также маэстро Петров! – уточнил Учитель. – Компаньоны – это святое. Кстати, а как они барыши делили? Напополам, что ли? Никто не знает?
Кажется, это действительно никого не волновало.
– Ну, тогда давай польку «Бабочку», Талгатик. С перебором. Эх, хрустнем! Сила воли плюс характер!
– Нет, товарищи. Сначала позвольте мне провозгласить тост, – слово сама себе предоставила Марго.
На минуту воцарилась тишина.
– Товарищи!
Стало так тихо, что было слышно, как нервно потрескивает вольфрамовая нить в лампочке.
– В этот знаменательный, великий для нас день я предлагаю выпить за учителей, за наставника, – за Учителя, так сказать, с большой буквы. Все, здесь сидящие, отдали или готовы отдать здоровье и саму жизнь школе, детям, самому светлому, что есть в жизни. Мы заслужили этот праздник. Думаю, Федор Михайлович Достоевский, именем которого названа наша школа, – и это предмет нашей гордости! – порадовался бы, увидев, как мы каждодневно, не жалея сил и нервов, воплощаем его гуманистические идеи в жизнь. Слезинка ребенка, ставшая для него символом страдания, – это и для нас святое. Мы делаем и впредь будем делать все, чтобы дети не плакали, а смеялись и радовались жизни. За нас! За вас, дорогие мои! За ваш подвижнический труд и великое педагогическое мастерство!
В глазах у Учителя блеснула влажная поволока.
Романов растерянно оглянулся и увидел, что его окружают сплошь растроганные лица. Испытывая мучительное чувство неловкости за Маргариту и, как ему казалось, за обманутых в лучших чувствах наставников, он не верил собственным глазам и не знал, как реагировать на пышную и очевидно фальшивую тронную речь.
Но Маргарита сама уже прикладывала платок к глазам и к носу.
К счастью, сентиментальная пауза, позволившая проявиться коллективной слабости, была прервана осевшим баритоном:
– Ура!
– Ура!! – вздрогнул каземат.
Праздник рванул с места в карьер. Талгатик сидел за баяном, словно прячась от народа, и было видно, как крутыми волнами гуляют меха; но музыки не было слышно: ее заглушал смех, визг и особый, плотный гул, издаваемый роем, проклинающим в душе дисциплину и порядок. Всем хотелось разрядиться и расслабиться. Германа не переставало изумлять, как точно учителя копируют своих учеников. Чему же тогда они их учат?
Кто учителя, кто ученики?
«Разве это разумные люди? Нет, они сделаны из какого-то неразумного теста. Весь мир сошел с ума, весь мир», – крутилось у него в голове, которую он ощущал, как сорвавшийся с оси глобус. Белый оскал Учителя и его блестящие очи с поволокой примелькались настолько, что в глазах начинало рябить какими-то алюминиевыми брызгами.
– Играй, гормон! Выше знамя! – время от времени бросал Борисыч клич, похожий на тост, в массы. Его зонги охотно поддерживали: звон рюмок и стаканов прокатывался над испачканной скатертью добрым цунами.
«В конце концов, чем я лучше их? Ничем. Выше знамя? Выше!»
В этот момент на его руку прохладным спрутом легли длинные пальцы в крупных кольцах (со вкусом подобранных или безвкусно нацепленных? Сразу не скажешь). Он поднял глаза. Перед ним сидела учительница английского язык Элеонора, дай Бог памяти…
– Просто Элеонора.
– Герман. В конце одна буква «н». Ни в коем случае не две.
– Я уже наслышана о вас.
– Вы хорошо загорели. Отдыхали с мужем на юге?
– А вы наблюдательны. И любопытны. Мне это нравится. Я отдыхала одна. У нас с мужем такие отношения, что я могу себе это позволить.
– У вас настолько доверительные отношения, что он рискует отпускать такую роскошную женщину одну?
– Скажем так: он не изволит обременять себя чувством ревности по отношению ко мне. А меня это вполне устраивает. Наш брак держится не на чувствах, а на привычке испытывать отсутствие чувств.
– Неужели это перспектива всех браков?
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0