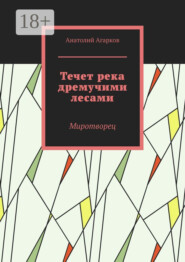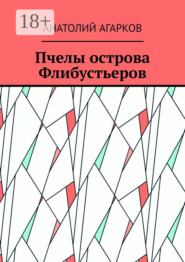По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Самои. Сборник рассказов и повестей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Её лицо всегда весёлое, с ямочками на щеках за эти несколько тревожных дней и бессонных ночей побледнело, осунулось, под глазами легла синева. Ещё бы! Сколько было радостных разговоров о будущей общей жизни, своём доме, хозяйстве! А теперь из-за этой проклятой войны, страшных казаков все мечты разлетаются, как испуганные птицы….
А вдруг Федька не вернётся? Что тогда с ней будет?
Федька чувствовал, как немеет рука под Фенечкиной головой, но долго не решался шевельнуться. Он выжидал, оттягивал минуту расставания, с нежностью вглядываясь в её лицо в неверном свете луны. Наконец соскользнул с полка и, осторожно ступая, собрался в дорогу. Он был готов идти, когда услышал её шёпот:
– Провожу тебя за околицу.
Ночь потемнела. На небе мерцали редкие звёзды. Где-то завыла собака, другая ответила ей. Тяжёлое предчувствие сдавило Фенечке сердце.
Остановились.
Хмурый, сдвинув брови, вглядывался Федька в сизую туманную даль, где чернели голые берёзовые рощи. Низкие, редкие серые тучки медленно плыли над пустынной землёй, разгоняя над сугробами лунную тень. За полями, за рощами лес сбивался в сплошной массив и тянулся далеко на юг, как говорили мужики, до самого Троицка-города. Сквозь эти чащи зимой можно ходить только звериными тропами, зная приметы и заговоры. Этими путями ходят и лесные чудища, лешие да кикиморы.
Федька поцеловал в последний раз Фенечку:
– Передай матушке мой низкий поклон. Чести, скажи, своей не обмараю и на Колчака служить не пойду. А буду я в Васильевке, у крёстного её, дядьки Ивана Назарова. Запомнишь?
И резко повернувшись, пошёл целиком, через засыпанное снегом поле.
Федька шёл на закат. Наверное, это была его ошибка, что не выбрал сразу накатанный путь, пошёл глухоманью, опасаясь встречи с казаками. Леса кругом стояли непролазные, густые, поляны похожи одна на другую. Снегу было по колено, а то и по пояс.
Остаток ночи растворился, новый день клонился к закату – жильём и не пахло. По его расчётам где-то за спиной остались и Васильевка, и Мордвиновка, но он шёл вперёд, боясь свернуть и заблудиться.
Вот и закат догорел. Федька совсем потерял направление и брёл из последних сил, повинуясь одному лишь желанию – идти там, где легче. Думы безрадостные, порой нелепые осаждали голову.
Он представлял себя нищим – искателем правды. Вот он ходит по дворам и неторопливыми умными речами раскрывает людям глаза на житьё-бытьё, и кормится чужой милостью. Нет у него большого дома с отцом, матерью, нет брата и сестёр – всё улетело, как подхваченный ветром пучок соломы.
Вскоре наступила ночь и всё затянула густой паутиной. Багровая луна стала медленно подниматься из-за деревьев. Тихо в дремучем зимнем лесу. Лишь изредка – треск мороза в стволах да шорох упавшей с ветки снежной шапки. Жуткий страх схватил за горло Федькину душу. Где, под каким кустом окончится его жизненный путь? У какой берёзы найдут по лету грибники его бездыханное тело? Или, быть может, волки растащат по косточкам?
Мороз гнал из тела усталость, и Федька всё шёл и шёл вперёд, теряя счёт времени и вёрстам. И вдруг….
На глухой лесной полянке среди наваленного грудами хвороста поблёскивал небольшой костёр. Два мужских голоса задушевно выводили «Лучину».
В паузе кто-то сердито проворчал:
– Распелись не к добру.
– Чем песня плоха?
– Ну, как услышат.
– Кто ж сюда доберётся – в глушь да лихомань?
– Всё одно – какое нынче пение….
– А почему не петь?
– У меня вон в брюхе с голоду поёт, – не уступал сердитый молодой голос.
– Ишь ты, – у костра засмеялись, – шти про тебя ещё не сварены.
– Ничего, – покрыл всех спокойный бас, – Как закипит вода, муки сыпанём – болтушки похлебаем. Жаль только соли нет.
– Да и муки-то последняя горсть….
Разговоры разом оборвались, когда Федька вышел на свет костра. Вокруг него сидели четыре молодца – из тех, кому ни мороз, ни снег, ни метель-пурга, ни ведьмино заклятье – всё нипочём. На жару в глиняном горшке готовили похлёбку, а теперь рассматривали подошедшего невесть откуда парня. Федька – роста вышесреднего, статный и широкоплечий, со спокойным видом и прямым взглядом стоял перед ними.
Молодой голос хмыкнул:
– Вот и мяско подвалило.
Высокий и тощий, строго зыркнув на приятеля, знакомым уже баском спросил:
– Из далёка будешь?
– Из Табыньши. Не найдётся ли у вас, люди добрые, места у огня? Замороченный я.
– В таком лесу – плёвое дело, – согласился другой, низкий и круглый, жмуря красные слезящиеся глаза.
– Мне бы поесть чего….
– Ладно. Садись к костру. Может и для тебя чего найдётся.
Федька подсел к огню, где на жару шипел закоптелый глиняный горшок.
– Чего варим?
– Али не видишь?
Представились.
Новые знакомцы назывались чудными какими-то именами-кличками. Басовитый сказался Попом, толстяк – Душегубом, молодой верзила – Мальком. Все по виду и разговору – городские. И лишь четвёртый, угрюмого вида, заросший волосами по самые глаза, деревенского склада мужик – Иваном Тимофеичем.
В разговорах не таились, и вскоре Федька к страху своему убедился, что перед ним не самые добрые люди, которых можно встретить ночью в такой глухомани. Но отступать было поздно, да и некуда. И чтобы уравняться с ними в грехах перед законом, рассказал о себе.
– Ну, Агарыч, видать, с нами тебе дорога, – участливо покачал головой Поп.
Мороз усиливался, лёгкая снежная пыль закуржавилась над землёй и засыпала сидящих. Федька протянул озябшие ладони к огню и немигающими глазами смотрел на перебегающие по сухим сучьям языки костра. В лесу было тихо, и можно не спеша вести беседу.
Поп неторопливым баском своим уговаривал товарищей податься в Челябу, где и затеряться проще в толпе и сытней, должно быть, жить вёрткому человеку. Впрочем, ему никто не возражал, только мрачный Иван Тимофеич всё отрицательно иль осудительно покачивал головой, но молчал.
Прошла половина ночи.
Усталость брала своё. Глаза у Федьки начали слипаться, незаметно подкрадывался сон. Полная яркая луна светила с беззвёздного неба. Быстро плыли облака. Словно зацепившись за острый край, они закрывали её на мгновение и летели снова дальше.
Иван Тимофеич озабоченно покачал головой:
– Скоро пурга будет.