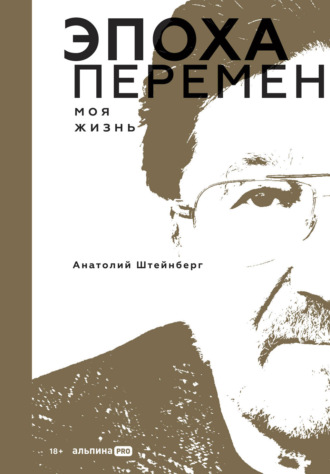
Эпоха перемен. Моя жизнь
Во взрослой жизни я редко сталкивался с проявлениями ксенофобии, иногда они даже имели позитивный исход. Например, еврейская фамилия однажды помогла мне в важном деле. В 2000 году я избирался депутатом законодательного собрания Иркутской области. У меня в округе было около сорока четырёх тысяч избирателей, которые жили в городах Байкальск, Слюдянка и разбросанных вдоль Байкала многочисленных рабочих посёлках. Во время избирательной кампании я приехал в Усольский район, в крупный посёлок лесозаготовителей, который располагался на другой стороне Байкала. На дворе стояло жаркое лето, для встречи с кандидатами в депутаты на площади собрались около тысячи человек из разных посёлков. Нас было трое: кандидат Сайков – подполковник милиции; кандидат Виноградова – журналистка; и я – Штейнберг, председатель совета директоров Байкальского ЦБК. Ранее в этом избирательном округе депутатом был Игорь Гринберг, директор алюминиевого завода.
Народ толпился на площади, присесть им было некуда, а мы с трибуны вещали, что полезного сможем дать району и что обещаем сделать, когда станем депутатами. Я не думаю, что сказал какие-то умные слова, другие кандидаты тоже ничего особенного не сказали. До встречи с избирателями я опубликовал в местной газете статью о себе, о своём детстве. Люди, как оказалось, прочитали её. После выступлений кандидатов в депутаты народ на площади оживился, в центре большого скопления людей появился здоровый мужик, рубашка у него была расстёгнута до пупа, было видно, что он поддатый. Он начал говорить:
– Мужики, я статью в газете прочитал! Я так думаю, что после Гринберга нам только Штейнберга надо выбирать!
Я первый раз оказался в Усольском районе, но народ избрал меня единодушно. Когда зимой этот посёлок стал замерзать, глава посёлка обратился ко мне и попросил помощи. Я решил вопрос: чтобы город не замёрз, я просто отправил главе две цистерны мазута. Наверное, когда этот поддатый мужик говорил про Гринберга и меня, он понимал, что с заводского человека с фамилией Штейнберг можно получить больше, чем с милиционера и журналистки. Когда евреи рассказывают о себе и своей жизни, зачастую они вспоминают негативные случаи ксенофобии, а я вспоминаю именно этот случай.
Но из-за ксенофобии в моей жизни случались и неприятные события. Однажды на Байкальском комбинате была планёрка, меня куда-то избирали. После выборов мой приятель сказал, что услышал возглас одного из сотрудников: «Только евреев нам ещё не хватало!»
Другой случай произошёл во время поездки членов законодательного собрания Иркутской области за рубеж. Девяностые годы я называю периодом «разгула демократии». Тогда решался вопрос о перепрофилировании Байкальского комбината, десять депутатов поехали в Финляндию и Швецию, чтобы посмотреть идеи для перепрофилирования нашего завода. Я ездил вместе с ними как представитель комбината. Один из депутатов был достаточно крупным руководителем строительной компании из Ангарска. Другой депутат в делегации был евреем, он вёл себя дурно, его поведение всех раздражало. Но это не было связано с его национальностью, таких людей можно встретить в любом народе. На одну из выходок депутата руководитель строительной компании ответил:
– Ну что с него взять? Еврей же!
Я тогда очень резко ему ответил:
– Слушай, я тоже еврей! Многие годы я вообще не чувствовал к себе какого-то неравного отношения, но последнее время мне об этом стали часто напоминать!
Руководитель был старше меня, но, несмотря на это, он тут же сердечно извинился.
Откуда вообще возникает ксенофобия? Я думаю, что это зависть к успешности. Когда Уинстона Черчилля спросили, почему в Англии нет антисемитизма, он очень хорошо ответил:
– Потому что мы, англичане, не считаем евреев умнее себя!
В России в период первоначального накопления капитала многие заметили, что евреи быстрее других ориентируются в денежных вопросах: семибанкирщина, Березовский, Гусинский, Ходорковский, Фридман. В 1990-е годы это вызывало страшную зависть у большинства населения. На мой взгляд, в современном обществе стало меньше антисемитских проявлений, или я просто не реагирую на проявления зависти. Я думаю, что еврейский народ хорошо обращается с деньгами, потому что этому способствовали тысячелетия выживания. Но идею Черчилля я считаю очень правильной: не нужно завидовать, нужно работать.
Глава 5
Фантастический выбор
В средних и старших классах школы больше всего я любил читать исторические книги и фантастику, это, вероятно, и определило выбор моей будущей профессии. Изначально я хотел стать археологом. В десятом классе я пришёл на исторический факультет Пермского государственного университета, чтобы узнать условия приёма, но в приёмной комиссии меня обескуражили: археологической кафедры в университете не было. Лучшая перспектива, которая открывалась передо мной после исторического факультета, – это работа учителем истории. Наверное, если бы я пошёл на исторический факультет, из меня получился бы прекрасный преподаватель, но я не хотел быть педагогом.
Поскольку в археологию я не попадал, нужно было искать альтернативные варианты. В справочнике «Пермские ВУЗы» я нашёл факультет, название которого звучало фантастически: «Автоматика и техника – отраслевая кибернетика». Кибернетика была для меня чем-то невероятным, неизведанным и очень заманчивым. В философском словаре СССР кибернетика была названа «буржуазной лженаукой», что делало её в моих глазах ещё более привлекательной.
В школе я зачитывался книгами Клиффорда Саймака, Айзека Азимова, Роберта Шекли, братьев Стругацких, Ивана Ефремова, Гарри Гаррисона. Моим любимым польским писателем был Станислав Лем, который работал преподавателем философии в Краковском университете. Я читал и перечитывал книги его авторства: «Сумма технологий», «Рассказы о пилоте Пирксе», «Звёздные дневники Ийона Тихого», «Солярис», по которой Тарковский снял одноимённый фильм. Станислав Лем в своих книгах разбирал законы робототехники и писал о совершенно невозможных в то время вещах: мужчина оказывался на острове в полном одиночестве, ему нужно было связаться со своей девушкой, он нажимал на кнопочку наручных часов и говорил с ней. Фантастика, да и только! Сейчас эта фантастика стала нашей обыденной реальностью.
Поскольку Станислав Лем был великим мыслителем, он предвидел будущее. В книге «Сумма технологий» Лем размышлял о технологическом развитии человечества и уже тогда задумывался о взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Для меня это был увлекательный новый мир. Я понимал, что кибернетика близка к искусственному интеллекту, поэтому выбрал факультет кибернетики для продолжения обучения.
Помню, когда я сдавал вступительные экзамены в институт, абитуриенты самоорганизовывались для каких-то административных целей и вели списки поступающих. Когда подошла моя очередь, я назвал свою фамилию:
– Штейнберг!
Никто не удивился и не переспросил мою фамилию, написав её абсолютно правильно с первого раза. Для меня эта ситуация стала наглядной характеристикой институтской среды: рядом со мной находились грамотные и культурные люди. Я понял, что здесь мне будет комфортно учиться.
Мне всегда нравились элегантность, опрятность, утончённость, в общем, я любил и люблю красиво одеваться. Когда я поступал в университет, в первый день я пришёл в одном костюме, на следующий день – в другом, на третий день – в третьем. Саша Митюшов, мой будущий однокурсник, спросил:
– Сколько у тебя костюмов?
– Три.
– А у нас у крестьян ни одного нет!
Но родители не покупали мне эти костюмы. Я сам покупал их за свои деньги. У меня всегда был свой стиль, никто так не одевался из моих сверстников, как я.
Я поступил в институт в 1969 году. Тогда Генеральным секретарём ЦК КПСС был Леонид Ильич Брежнев, в то время уже началась эпоха застоя. Советский Союз становился крупным экспортёром энергоресурсов. В период правления Брежнева были открыты и освоены нефте- и газовые месторождения в Западной Сибири, построены газопроводы в Европу. С одной стороны, в стране продолжалась сильная космическая программа, которая давала народу вдохновение и ощущение силы и величия страны. С другой стороны, СССР сосредоточился на международном строительстве социализма, продолжая поддерживать утопические взгляды на социалистическое развитие мира. Мы увлеклись идеей противостояния капитализму и соревновались с апологетами капитализма – Англией и США. Мы тратили огромные финансовые и другие ресурсы для продвижения идей мирового социализма. Крушение колониализма в Африке во многом стало заслугой Советского Союза, мы способствовали разрушению колониального режима в Азии и во всём мире. Но во сколько нам это обошлось? Мы могли тратить деньги на собственное развитие, но не делали этого, поддержка угнетённых стран происходила за счёт выкачивания средств из экономики СССР. У нас серьёзно развивалась военная промышленность, но гражданские отрасли стагнировали. Уровень жизни советского населения не улучшался так быстро, как он рос, например, на Западе. У граждан СССР стали появляться стиральные машины, плиты, холодильники, у кого-то автомобили, но всё это не шло ни в какое сравнение с тем, как развивалось потребление в западных странах. В отличие от них уровень жизни советского человека рос очень медленно, так закладывался будущий крах социалистической системы.
Руководство страны в какой-то момент решило закупать товары за рубежом, потому что внутреннее производство товаров народного потребления не развивалось. Я помню, как в продаже стали появляться товары сначала из социалистических, а потом из капиталистических стран. В СССР можно было купить югославскую и румынскую мебель, финскую одежду, итальянскую и французскую обувь. Все импортные товары были в дефиците, но народ стал лучше одеваться. Чем больше такого товара появлялось в стране, тем больше негатива накапливалось в умах простых людей. Возникал логичный вопрос:
– Почему у нас самих такого нет?
В космической сфере мы ещё продолжали развиваться, в этом направлении у нас были большие победы. Совместный проект космического сотрудничества СССР и США «Союз – Аполлон» подпитывал народную гордость за страну: «Такое есть только у нас и у США, больше ни у кого такого нет!»
Страна становилась всё более закрытой, период «хрущёвской оттепели» быстро закончился. Сильные талантливые люди, которые не выдерживали душной атмосферы ограничений и запретов, либо уезжали из страны самостоятельно, либо их высылали. В тот период страну покинули поэт Иосиф Александрович Бродский, писатель Василий Павлович Аксёнов, художник Михаил Михайлович Шемякин. Из страны был выслан Александр Исаевич Солженицын. Если его первое произведение «Один день из жизни Ивана Денисовича» было опубликовано в СССР в журнале «Новый мир», то следующие произведения, например «Раковый корпус» и другие, официально не издавались в нашей стране. Они публиковались за рубежом, попадали в СССР «самиздатом» и перепечатывались вручную на печатных машинках. Мы читали эти книги с пятой-седьмой слепых копий[2]. После высылки Солженицына из страны в 1974 году в газетах была развёрнута кампания против писателя. Там часто были выступления подобного содержания:
– Такая-то доярка сказала, что он лживый пособник капитализма, тракторист из другого колхоза отметил, что он недостойный человек и ему нельзя было жить в Советском Союзе!
Меня возмущала эта ситуация, в голове звучала мысль: «Дайте мне прочитать его книги! Я взрослый человек и сам сделаю выводы!»
Я рассуждал об этом довольно громко, обсуждал с ребятами на потоке в институте, после чего меня однажды даже вызвали на разговор:
– Парень, ты себя неправильно ведёшь!
– Так дайте прочитать! Я прочитаю и сделаю выводы.
– Ты плохо кончишь!
Это не было серьёзной угрозой, но я сделал свои выводы о времени, в котором живу.
Учиться в институте было достаточно сложно. У нас было много математики, которую я не очень любил, но я старался и хорошо с ней справлялся. На нашем факультете мы проводили первые опыты, придумывали и тестировали необычные для того времени приборы. Однажды в институтской лаборатории мы собрали устройство, которое включало и выключало свет по хлопку. Сейчас это довольно примитивный механизм, который часто используют в современном быту, но тогда он приводил нас в восторг. Мы установили автоматический включатель-выключатель в учебной аудитории: хлоп – свет включался, хлоп – выключался! Даже преподавателю это очень нравилось. Было здорово наблюдать за взрослым, который радовался, будто ребёнок, он сохранил в себе эту способность удивляться и радоваться простым вещам, испытывать неподдельный восторг.
Ведь что такое детство? На мой взгляд, детство – это состояние, когда человек постоянно расширяет свои познания о мире, не перестаёт узнавать и удивляться. Когда это пропадает, можно сказать, что человек состарился, а старость может наступить и в двадцать, и в тридцать лет. Наш преподаватель оставался юным.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Целина – никогда не паханная, а также много лет не подвергавшаяся обработке земля. С. И. Ожегов. См.: Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – М.: АСТ, 2023.
2
«Слепой» копией называли пятый-седьмой экземпляр, размноженный через копировальную бумагу на пишущей машинке.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

