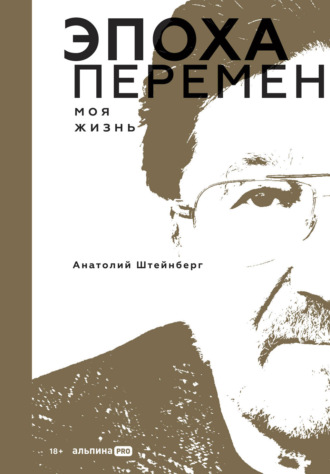
Эпоха перемен. Моя жизнь
Ещё одно яркое воспоминание того времени – ковыльная степь. Когда в цветущем ковыльном поле гулял ветер, степь превращалась в голубое волнующееся море, которое не имело берегов. Когда по степи пошли тракторы, это бескрайнее море превратилось в чёрную, вывернутую наизнанку землю. Веками непаханая степь, богатая чернозёмом, готовилась под посевы. Разрушалась тысячелетняя среда обитания кочевого народа, табуны лошадей уходили то ли вдаль к невидимым берегам необъятной степи, то ли отправлялись в небытие, а за ними следовали казахские кибитки. Это было нужно великой стране, но нужно ли это было кочевникам? Они хорошо жили на этой земле, у них были огромные табуны лошадей, которые обеспечивали им традиционную безбедную жизнь.
В самом начале целинной эпопеи урожаи пшеницы были рекордными. Будучи ребёнком, я запомнил, что в первый урожайный год никто не знал, куда деть зерно и что с ним делать. Уже тогда я понимал, что взрослые поступили бездумно и даже глупо, засеяв бескрайние поля, не продумав заранее, как и где нужно будет хранить зерно. Железная дорога была очень далеко от села, элеваторы не построили, не было достаточного количества грузовых автомобилей, чтобы вывезти зерно с полей, не хватало подвижных составов для его транспортировки. Я помню, как бульдозеры двигали огромные горы зерна, потом зерно ссыпали на брезент и складывали в кучи – бурты. В огромной куче сырое зерно прело, температура в бурте поднималась, из-за этого зерно начинало гореть. Огонь стал причиной гибели большого объёма зерна. Это было страшное зрелище!
Несмотря на свой малый возраст, уже тогда я осознавал всю глупость и трагичность происходящего. Взрослые проделали такую тяжёлую работу, самоотверженно трудились, не жалея сил, выгнали несчастных казахов с их исконных земель, а потом так бездарно уничтожили результаты своего труда. Степь мощно отозвалась огромным урожаем, и из-за человеческой глупости всё погибло. Со временем всё наладилось: построили элеваторы, проложили дороги, организовали логистику, но первый урожай был самым большим. В Советском Союзе зачастую был важен исключительно результат, а не то, какими усилиями и жертвами он достигался.
Глава 2
Через тернии к звёздам
Освоение целины продолжалось, но глупые эксперименты в сельском хозяйстве на этом не закончились. Никита Сергеевич был талантливым и энергичным человеком, но, к сожалению, малообразованным. Съездив в США, Хрущёв решил, что кукуруза станет ключевой культурой, которая приведёт СССР к продуктовому изобилию. Когда в Советском Союзе принималось какое-то решение, его обязательно надо было выполнять, вдохновенно и самоотверженно. Кукурузу стали выращивать повсеместно, даже в тех районах, где она не могла вызреть. Несозревшую кукурузу стали перерабатывать в силос. Я видел эти силосные ямы: в земле выкапывали траншею, в неё бульдозерами сталкивали кукурузные стебли, после чего бульдозеры и тракторы утрамбовывали их в яме. Потом круглый год этим силосом кормили скот.
Тектонический сдвиг в жизни страны произошёл на XX съезде КПСС, который открылся 14 февраля 1956 года в Москве. В последний день работы съезда, 25 февраля 1956 года, на закрытом утреннем заседании Никита Сергеевич сделал доклад «О культе личности и его последствиях». В своём докладе он осудил политические репрессии и многочисленные преступления второй половины 1930-х – начала 1950-х годов, и вину за это он возложил на Сталина. Эти заявления вызвали неоднозначную реакцию как среди простых граждан, так и среди государственных лиц. Люди, победившие в Великой Отечественной войне, которые шли в бой «За родину, за Сталина!» и на броне танков писали «За Сталина!», вдруг услышали, что Сталин – это жестокий диктатор, который натворил в стране много бед, причинил страдания огромному количеству людей. Не все были готовы спокойно принять новую реальность. Последствия этого решения ощущаются до сих пор. Наверное, Хрущёв осознавал это, но всё же решился на такой шаг.
Этот доклад сказался и на международных отношениях СССР. Лидер КНР Мао Цзэдун открыто выразил недовольство разоблачением культа личности Сталина. При всей сложности отношений со Сталиным Мао Цзэдун очень уважал Иосифа Виссарионовича и, наверное, видел в нём родственную душу: Мао Цзэдун тоже был лидером нации, который смог выстроить диктатуру в огромной стране. Он считал Сталина не просто лидером КПСС, но и лидером всего мирового коммунистического движения, в том числе китайского. Поэтому после доклада Хрущёва отношения с Китаем стали ухудшаться.
Тем временем продолжались эксперименты в сельском хозяйстве. Ещё одним недальновидным и, на мой взгляд, совершенно глупым экспериментом Хрущёва стало ограничение поголовья крупного рогатого скота в домохозяйствах. В 1957–1961 годах людей заставляли сдавать на мясо «лишних» коров. Нашей семьи это тоже коснулось: тогда у нас было две коровы, одну из которых мы вынуждены были отдать. Начался массовый забой скота, что в 1958 и 1959 годах привело к избыточным объёмам мяса и ликованию партийных деятелей, но уже в 1960 году из-за резкого снижения поголовья крупного рогатого скота в стране появилась нехватка мяса. Такие эксперименты в масштабе всей страны приводили к катастрофическим последствиям!
Также я стал свидетелем ещё одного важного исторического события – денежной реформы 1960–1961 годов. В процессе реформы происходила деноминация: денежные знаки обменивались на новые в соотношении десять к одному, т. е. стоимость рубля должна была повыситься в десять раз, должны были измениться только сами деньги, но по факту получилось совсем по-другому. В реальности произошла девальвация – снижение стоимости рубля. Стоимость товаров стала выше. Народ ориентировался по стоимости спичек: до реформы коробок стоил пять копеек, после реформы – одну копейку, а должен был стоить полкопейки. Народ у нас не глупый и, конечно, понимал, что эта реформа была совсем не в пользу простых людей. Реакция населения, как и на передачу Крыма, была негативной.
Никита Сергеевич провёл ещё много разных реформ, какие-то имели положительные результаты, какие-то были совсем неэффективными и отменились почти сразу после его ухода в отставку. Но без сомнений, важнейшим событием этого периода стало покорение космоса!
В 1957 году произошло величайшее событие в истории Земли – запуск первого искусственного спутника. Весь советский народ ликовал! Пропаганда в СССР работала великолепно: государственные победы превращались во всеобщий праздник, единение народа в такие моменты было наивысшим.
Потом в космос запустили собак Белку и Стрелку, а 12 апреля 1961 года произошло то, о чём раньше и подумать было невозможно. В этот день по дороге в школу я издалека увидел необычное оживление на школьном дворе: все ученики и преподаватели толпились у входа в школу, то и дело были слышны какие-то странные шутки старшеклассников: «Ну что, гагары прилетели? Прилетели гагары?» Я совершенно ничего не понимал. Внезапно громкоговоритель, висевший на столбе, включился:
– Первый космический полёт человека в космос завершён успешно! Первый в истории Земли космонавт Юрий Алексеевич Гагарин приземлился, он жив и здоров.
Это была фантастика! Дети и взрослые, собравшиеся перед школой, ликовали! Тут же начался стихийный митинг, на котором выступили директор школы и учителя. Они говорили от души, искренне и восторженно, поздравляя друг друга. Пожалуй, за всю свою жизнь я больше никогда не видел такого единения и массовой гордости за свою страну. В своё время я был впечатлён поэмой Евгения Александровича Евтушенко «Братская ГЭС». Там есть слова:
– Я, Братская ГЭС, говорю тебе, египетская пирамида.
Пафос созидания, масштаб, величие свершений – этого сегодня в нашей жизни, к сожалению, нет. Я считаю себя патриотом России, поэтому мне очень жаль, что сегодня нет той гордости за страну, которая была раньше.
Юрий Гагарин первым в истории человечества за сто восемь минут облетел земной шар! Великий советский народ снова сделал невозможное. Это была наша очередная победа, наше великое научно-техническое достижение! Я до сих пор не могу объяснить это чувство причастности людей к грандиозным свершениям страны. В такие минуты торжества мы были единым и сплочённым советским народом без деления на русских, украинцев, татар, грузин, евреев… Мы все радовались победам нашей великой страны. Советский Союз делал мировую историю, и мы гордились этим! Потом каждый мальчишка в Советском Союзе, в том числе и я, мечтал стать космонавтом.
Советский Союз строил коммунизм. Планы были колоссальными, о них было объявлено на всю страну: 31 октября 1961 года состоялся XXII съезд КПСС, на котором приняли Третью Программу КПСС. Хрущёв заявил, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, который мы должны были построить к 1980 году. Тогда провозглашался основной принцип коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Когда я задумываюсь над этой формулировкой сейчас, я понимаю, насколько она ужасна и лицемерна, я бы даже назвал этот лозунг паразитическим. Каждый человек должен был быть настолько идеалистичен, чтобы с полной отдачей работать столько, сколько сможет. Принцип социализма «от каждого по способностям, каждому по труду» мне ближе. Мы в стране с гордостью объявляли этот принцип. Но, по своей сути, это принцип капитализма: ты можешь много работать, но получишь ты только за свой труд. Позже, анализируя жизнь в соседних странах, мы поняли, что шведы построили социализм, а у Советского Союза этого так и не получилось. Человек, увы, никогда не будет идеален, такова его природа. Всегда найдутся лентяи, обманщики, преступники и бунтари, не желающие жить, следуя законам и провозглашённым лозунгам.
Но тогда я искренне верил, что в 1980 году наступит эра всеобщего благоденствия, когда мы наконец построим коммунизм!
Глава 3
Школьная адаптация
Школьный период иногда называют школой жизни, и я с этим согласен. В школе мы учимся общаться со сверстниками, отстаивать свою позицию, в этот период у молодых людей происходит становление характера, закалка и подготовка ко взрослой жизни. В связи с папиной работой и частыми переездами за время учёбы я поменял четыре или пять школ. Я каждый раз заново вливался в коллектив, занимал в нём своё место, завоёвывал авторитет. Мне кажется, что у меня это получалось достаточно легко, потому что уже тогда я был интересным человеком. Чтение книг и общение в семье формируют язык ребёнка. Я много читал, у меня был широкий кругозор, богатый словарный запас и хорошо развитые навыки общения. Большую роль в этом сыграла моя мама, за что я безмерно ей благодарен. У неё было всего семь классов образования, но с самого раннего детства она мне много читала. Пушкин и Лермонтов были нашей обязательной программой, например мы прочли «Бородино» огромное количество раз, когда я был ещё ребёнком. Поэтому уже с первого класса я выгодно отличался от сверстников своей любознательностью и эрудицией.
Моими самыми любимыми книгами были книги про приключения! Они развивали фантазию, и я всегда знал, чем можно заняться с друзьями, какие игры или развлечения придумать, это делало меня лидером в детской компании. Я прочёл бессчётное множество приключенческих книг Эрнста Сетона-Томпсона, меня особенно захватила книга «Маленькие дикари», проиллюстрированная самим автором. В книге рассказывалось, как дети приехали из города в деревню. Одним из героев книги был пожилой фермер, он рассказывал ребятам о жизни индейцев. В книге очень подробно описывался процесс постройки вигвама, я его запомнил и предложил делать вигвамы моим друзьям. Мы стали строить шалаши, это было невероятно интересно!
Учиться мне действительно нравилось, особенно меня увлекали география, история и литература, также я с любовью учил физику, а вот химия и математика были для меня неизбежной необходимостью. Я любил спорт и физическую активность, но мне не нравился сам урок физкультуры из-за организации процесса: после урока приходилось ходить в мокрой одежде, а душ в советской школе, конечно, не подразумевался.
Географию я просто обожал, в сочетании с приключенческими книгами изучать её было особенно увлекательно. К домашним заданиям я подходил творчески: шёл в библиотеку, брал книги Майн Рида и на свой манер готовил описания стран или интересных мест. Учительница была мной очень довольна, а мои домашние задания получались интереснее учебника.
Классе в пятом или шестом у меня проснулся талант к чтению стихов. Мне нравилось вживаться в роль, пробовать передавать разные эмоциональные моменты произведения. Помню, как я перед всем классом рассказывал отрывок из «Мцыри» Лермонтова про бой с барсом. Я будто сам боролся со зверем, смотрел в глаза врагу, вцепляясь в него не голыми руками, но словами и звуками. Когда я закончил читать отрывок, учительница, Галина Михайловна, обратилась к классу:
– Ребята, как вы думаете, правильно ли Толя прочитал отрывок?
Мои одноклассники попытались найти ошибки, предполагали, что я не соблюдал знаки препинания, говорил то громко, то слишком тихо. Но учительница остановила эти рассуждения и подвела итог:
– Прочтение было блестящим!
С этого момента я полюбил декламировать стихи, мне нравилось приковывать к себе внимание слушателей. Однажды одноклассники не хотели писать контрольную работу и попросили меня почитать стихи прямо на уроке. Я выбрал длинное-предлинное стихотворение Михаила Александровича Дудина «Песня дальней дороге» и предложил Галине Михайловне в начале урока прочесть его перед классом. Она без сомнений согласилась. Я читал его от всей души так выразительно, что весь класс сидел не шевелясь, а Галина Михайловна была очарована. В конце прочтения она поблагодарила меня, сказав, что заслушалась и даже не заметила, как пролетел урок. Конечно, никакой контрольной в тот день не случилось, чему ребята были несказанно рады.
Я проявлял неподдельный интерес к истории, читал много дополнительной литературы про археологию, древних богов, раскопки гробниц. На уроках истории я всегда был внимателен и активно вовлекался в обсуждения тем, при возможности демонстрировал свои глубокие познания. Каждый учитель чувствует отношение ученика к его предмету и часто взаимно откликается на такой интерес, поэтому у меня сложились прекрасные отношения с учителем истории. Книги, прочитанные вне рамок школьной программы, давали мне возможность общаться с учителем практически на равных, и нам обоим это нравилось.
Помимо учёбы и чтения дополнительной литературы я увлекался боксом и фотографией. Фотография поражала меня сложностью и технологией процесса. Нужно было самому приготовить специальные растворы, аккуратно заправить плёнку в бачок, особенным способом печатать фотографии под красным фонарём, иначе всё засветится. А боксом я занимался из-за любви к физической нагрузке, ради того, чтобы быть в спортивной форме, а не ради того, чтобы уметь драться. Я вообще не помню, чтобы в школьные годы у меня были жестокие драки или серьёзные конфликты. Как правило, бьют одиночек, тех, кто более слаб и уязвим, а я был всегда окружён друзьями и большой компанией, да и слабым никогда не казался. Помню только однажды мы повздорили с моим приятелем из секции бокса Сашей Дудиным. Мы обменялись парой ласковых:
– Пойдём выйдем!
– Ну пойдём!
На задний двор школы тогда высыпал весь класс, ребята хотели посмотреть на нашу драку. Но в итоге мы побоксировали до первой крови и быстро помирились.
Я никогда не был агрессивным и не имел привычки лезть в драки или разборки, но всегда смело отстаивал свою позицию, как и герои моих любимых книг, старался быть справедливым и храбрым. Я даже иногда позволял себе публично давать оценку преподавателям, что было, конечно, некорректно с моей стороны и не всем нравилось. Но я был готов отвечать за свои слова и поступки сам, не привлекая родителей. Однажды завуч по воспитательной работе сильно повысила голос на учеников и не пустила их на линейку из-за опоздания. Прямо на линейке я сказал, что она совершенно ничего не понимает в воспитании. Такая наглость с моей стороны не прошла незамеченной: родителей вызвали на педсовет. Но на педсовет вместо них пришёл я сам. В качестве объяснения своей позиции я привёл стандарты общения великих учителей: Песталоцци, Макаренко, Ушинского, Корчака, сравнение было не в пользу завуча. После приведённых мной аргументов директор школы распустила педсовет, пригласив меня в свой кабинет, и сказала мне с глазу на глаз:
– Толя, пожалуйста, оставь её в покое. Да, она не права, но я же не могу её уволить, мне просто некем её заменить!
Я никогда не боялся говорить правду и отстаивать свою позицию. Уверенность в собственной правоте была мне свойственна с детства и сопровождает меня по сей день. Я, вопреки обстоятельствам, не часто испытывал страх. Уже когда я стал заниматься бизнесом, случались такие ситуации, когда меня могли убить, но я знал, что правда на моей стороне, из-за этого вёл себя свободно и независимо, не ощущая страха. Девяностые годы были временем разгула бандитизма, этнические группировки воевали между собой. В тот период случалось много ситуаций, когда я был вынужден взаимодействовать с бандитами, им ни в коем случае нельзя было показывать свой страх. Но парадокс заключался в том, что иногда я искренне не видел потенциальной угрозы, можно сказать, что я недостаточно боялся. Однажды мы встречались в «Гранд-Отеле Мариотт» на Тверской с чеченцем из криминальных кругов. Он пришёл с огромным вооружённым охранником. Видно было, что чеченец испуган, поэтому ему нужна была подмога. Я же пришёл на встречу совсем один. Мы сели обсуждать наш вопрос, и в какой-то момент я спросил:
– Слушай, может, мы отпустим этого детину? Он в разговоре всё равно не участвует.
Чеченец смутился и попросил охранника выйти. В итоге мы спокойно поговорили и мирно урегулировали вопрос. Но потенциальный риск этой ситуации я осознал намного позже.
Когда я учился в средней школе, в стране случились очередные серьёзные перемены. В октябре 1964 года на Пленуме ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущёва принудительно освободили от должности руководителя советского правительства, то есть отстранили от управления страной. Его обвинили в многочисленных ошибках, которые он совершил во время своего правления, грубости по отношению к членам партии, созданию собственного культа личности и многом другом. Особенность его отставки была в том, что впервые в советской истории его «свержение» не закончилось трагедией, расстрелом или тюрьмой. Никита Сергеевич на следующий день после официального освобождения от полномочий проснулся советским пенсионером, что было крайне нетипично для законов того времени. Британский журналист Марк Френкланд, издавший биографию Хрущёва в 1966 году, написал так: «В некотором смысле это был его лучший час: ещё десять лет назад никто не мог предположить, что преемник Сталина может быть устранён таким простым и мягким методом, как голосование».
Глава 4
Еврейский вопрос
Далеко за Уралом проявлений ксенофобии было значительно меньше, чем в европейской части Советского Союза, но всё же ксенофобия существовала и мне приходилось сталкиваться с её проявлениями.
Когда я был совсем маленький, мы играли в войну. Заводилой был парень лет пятнадцати, он давал звания всем игрокам. Мне, самому младшему, досталось звание ефрейтора, а все остальные были рядовыми. Я был этому рад, потому что ефрейтор по званию был выше рядового. Мы отлично поиграли, набегались, «навоевались», а дома я радостно рассказал маме, как мы удачно спрятались, обхитрили ребят и в итоге победили.
– Мама, я был ефрейтором!
– Ефрейтором? Ну ладно! – сказала мама, поджав губы.
Я повернулся к ней и увидел её глаза. Эти глаза я запомнил на всю жизнь: в них неожиданно появились слёзы.
Другой случай произошёл со мной, когда я немного подрос. Как и принято у ребят, мы часто соревновались между собой, иногда ссорились, иногда дрались. Как-то мы боролись с одним мальчишкой, он был выше и крупнее меня, но я всё равно его победил. Мы были в том возрасте, когда проигрывать было очень обидно, особенно если победитель меньше тебя. Ребята стали смеяться над ним, проигравший мальчишка чуть не заплакал и со злости сказал мне:
– А зато ты еврей!
После нашего поединка у меня был такой моральный подъём, ведь я вышел из него победителем. Но после этих слов я был как проткнутый мяч: из меня разом вышла вся сила. Я ощутил беспомощность, потому что не знал, как на это отвечать. «А зато ты еврей!» – из его уст это звучало как оскорбление, как выражение презрения. Это было очень неприятно: пощёчина, на которую невозможно ответить. Именно так я воспринял его слова.
Папа никогда не говорил о том, что он еврей, что его родители евреи и что наша семья еврейская. Мы никогда не разговаривали на эту тему. Я очень люблю своего папу, но я думаю, что в этом вопросе он был неправ: он не подготовил меня к жизни, в которой к евреям проявляют агрессию просто потому, что они евреи.
В Советском Союзе ксенофобия и антисемитизм существовали на полуофициальном уровне. Государственная политика в этом вопросе была двойственной. С одной стороны, проявления антисемитизма публично критиковалось, с другой стороны, существовало много примеров, когда евреи подвергались нападкам и травле, увольнялись с высоких должностей, их без причин осуждали и даже расстреливали. Например, в 1952 году было начато следствие по известному «Делу врачей». Докторов, лечивших партийных деятелей, необоснованно обвинили в заговоре и убийстве ряда высокопоставленных партийных работников, многие обвиняемые врачи были евреями. После смерти Сталина дело было пересмотрено, обвинения признали ложными, всех врачей реабилитировали. Но память об этом событии осталась.
Когда я получал свой первый паспорт, я также столкнулся с проявлением ксенофобии. В паспортном столе были дела на мою семью, они знали, что моя мама русская, а папа еврей. Когда я получал паспорт, меня спросили:
– Какую национальность записать в паспорте?
Я искренне ответил:
– Русский!
Сейчас я совершенно спокойно сказал бы: «Еврей». Когда я пришёл домой с паспортом, папа попросил посмотреть документ, чтобы узнать, какую национальность я указал. Когда он увидел напечатанное в моём паспорте слово «русский», он изменился в лице, но никак это не прокомментировал.
Папа не взял на себя функцию воспитания моего национального самосознания, маме, очевидно, не хватало образования, чтобы разобраться в этом вопросе самой и объяснить его мне. Поэтому собственным культурно-историческим образованием я занимался сам, моё мироощущение сформировалось под влиянием книг, которые я прочитал. Я ощущаю себя русским государственником.
В институте со мной в одной группе учился Игорь Давыдов. Мы почти сразу подружились и продолжаем дружить сейчас. Его семья была родом из Березников. Это маленький город на севере Пермской области, известный мощной промышленностью: Березниковским калийным комбинатом и Березниковским титано-магниевым комбинатом. Позже семья Игоря переехала в Кишинёв. Мы с Игорёшей, так я его называл, прошли институт, вместе ездили отдыхать. Потом жизнь нас развела: Игорь уехал в Молдавию, дослужился до звания главного энергетика молдавской академии наук, позднее вместе с семьёй перебрался в Германию. Я тогда спросил его:
– А как ты уехал в Германию? Ведь для этого нужны какие-то основания!
– Я переехал в Германию по еврейской визе.
Я с удивлением спросил:
– У тебя разве есть родственники евреи?
– Так ты же был у меня в семье! У меня мама – еврейка.
Это стало для меня открытием: Игорёша был евреем, а я всю жизнь этого не знал!
При этом Игорь был стопроцентным евреем, а я нет. Национальность у евреев передаётся по материнской линии, его мама была еврейкой, а папа русским, а у меня наоборот.
Потом, когда я общался с другим товарищем из группы, Сашей Митюшовым, я рассказал ему эту удивительную для меня историю о переезде Игоря. Саша ответил, что все ребята знали о его еврейских корнях. Более того, они были уверены, что мы дружим с Игорем именно потому, что мы оба евреи. Мы проучились с другом пять лет, и нас совершенно не беспокоил вопрос национальности. У нас с Игорёшей были общие интересы, и, наверное, по поведению мы оба немного отличались от остальных: по сравнению с русскими ребятами мы меньше выпивали. Мы присутствовали в компаниях, но если русские ребята могли сильно напиться, мы с Игорёшей все-таки знали меру. Кажется, только этим мы и отличались.
Учитывая, что мне приходилось самостоятельно разбираться в национальном вопросе, я решил, что со своим сыном мне стоит об этом говорить. У меня не было много времени на его воспитание, но я старался доносить до него информацию о наших корнях, рассказывал, что его дед еврей и мы имеем отношение к евреям. Но я мало его готовил, чтобы он не испытал шока. А вот своих внуков я уже очень серьёзно готовил к жизни: я отдал их в еврейский детский сад. В этом саду не было упора на еврейство, детей просто хорошо воспитывали по английской системе. Но в детский сад регулярно приходили актёры, художники, музыканты, которые были евреями, и они общались с детьми, рассказывали о своей жизни и творчестве. В детский сад запросто могли прийти Кобзон или Розенбаум и выступить с концертом. Известных евреев, которые приходили к ним, мои внуки помнят до сих пор. Иногда их вместе с другими воспитанниками детского сада водили в синагогу, но не для того, чтобы навязать выбор религии, а скорее в просветительских целях, дети были вольны самоопределяться. Например, один из моих внуков до недавнего времени считал, что он немец, потому что в садике им ничего не навязывали.

