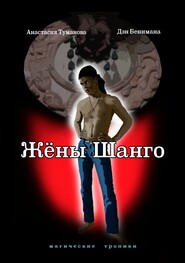По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Горюч камень Алатырь
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кузьма! Это что такое? Откуда вы взяли эту лошадь? Ты на старости лет в конокрады подался?
Увидев барина, дворовые умолкли и дружно вытолкнули вперёд кучера.
– Извольте видеть, сама взялась, а я не конокрад! – обиженно заявил тот. – Тут, Никита Владимирыч, под утро сущая фанаберия была!
– Фанаберия?.. И я ничего не слышал? И не могли позвать, олухи?
– Так не насмелились будить… И Авдотья Васильевна осерчали бы! А наше ли дело с правительством спорить?
С большим трудом Закатову удалось выяснить, что перед самым рассветом, в густых потёмках, к болотеевской усадьбе подъехал всадник с кобылой в поводу. Ему пришлось довольно долго громыхать воротным кольцом, пока к нему не вышел заспанный Авдеич. Всадник оказался прохоровским мужиком Степаном, которому барин велел пригнать Наяду в Болотеево и оставить там, поскольку сия Наяда была куплена болотеевским барином.
– Что?.. – растерянно переспросил Никита, которому всё ещё казалось, что он досматривает ночной сон. – Я – купил Наяду?.. Авдеич, воля твоя, вы оба пьяные, что ли, были со Степаном?!
– Вовсе не были, барин! – обиделся конюх. – С самого Спаса себе не дозволяли! И то удивительно, что чуть ли не середь ночи пригнали лошадку-то, – будто и впрямь конокрады какие! Я поначалу и запускать отказывался, потому от вас приказу никакого не было, и не на что нам таковых красавиц покупать… да Стёпка тот пообещал просто под воротами Наяду кинуть! Потому велено ему так было! Да ещё какие-то бумаги за пазухой привёз, велел вашей милости передать…
Закатов молча протянул руку, и Авдеич с почтением вынул из-за ворота зипуна чистый холстинковый свёрток. Внутри оказался дворянский паспорт на имя госпожи Александры Михайловны Влоньской, а также паспорт лошадиный – на кобылу Наяду, чистокровную орловку вороной масти четырёх лет от роду. Последней выпала записка, начертанная неровным мужским почерком, в которой господин Казарин уверял господина Закатова в совершеннейшем к нему почтении и покорнейше просил принять в дар «сию безделицу» со всеми надлежащими документами.
– Принять в дар?.. – спросил Никита у обалдело взиравшей на него дворни… и вдруг разом всё понял. И выругался так, что привыкший ко всему Кузьма даже присел.
– Ах ты… с-с-сукин сын! Да не ты, дурак… Всё-таки додумался! Авдеич! Живо Ворона седлать мне!
Через несколько минут Закатов вылетел со двора верхом, а следом неслась привязанная к седлу Наяда.
Скакать до Прохоровки было неблизко, и, когда Ворон взлетел на последний холм, солнце уже стояло высоко над прозрачным, сквозным лесом и скошенными полями. Внизу была видна покосившаяся казаринская развалюха. Закатов галопом подлетел к имению, осадил коня – и въехал в ворота, мельком удивившись тому, что они с раннего утра распахнуты настежь.
– Позови барина! – велел он выбежавшей навстречу старухе.
– Так нету, кормилец! – удивилась та, щурясь выцветшими, подслеповатыми глазами на Никиту. – Ты, родной, кто будешь-то?
Закатов назвался – и через несколько минут уже знал, что барин и Глафира Прокловна уехали ночью, торопясь «как на пожар», и не сказались куда.
– То есть как – «не сказались»? – растерянно переспросил Закатов. – У господина Казарина это ведь единственное имение, если я не ошибаюсь? Куда же они поехали?
– Не могём знать, ваша милость… Нам никаких распоряжениев дадено не было. Только вот и велели лошадку вам отогнать, так Стёпка мой спозаранку управился… А что, неладное что-то с Наядкой-то?
Закатов ошарашенно молчал. Было очевидно, что Казарин попросту сбежал. «Чёрт, вот ведь положение… Что же теперь делать? Оставить Наяду здесь?»
– С голоду подохнет, ваша милость. – уверенно сказал подошедший Степан, и Закатов, вздрогнув от неожиданности, понял, что размышлял вслух. – Овса не боле трёх четвертей осталось, а нового в этом году и не сажали, потому барин всё едино Наядку продавать собирался. Не ко двору нам такая царица, сами изволите видеть… Коли и вам не надобна, продавайте поскорей. Чем же животная виновата, пошто её голодом морить? Ей у нас и так не мёд был, потому уходу за такой красотой не разумеем. И взять её никто из мужиков не согласится… разве что цыганам продать. Нашим-то рабочие лошадки нужны, а эту нешто можно в соху запрягать? Только ногу сломит в борозде, и всё… И то диво, что ноги целы и хвори никакой не прилипло!
– Ты прав, – задумчиво согласился Закатов. И всю обратную дорогу до Болотеева, пустив лошадей шагом, напряжённо думал, как ему теперь поступить. Принимать взятку от мерзавца Казарина он не собирался. Можно было, разумеется, гордо оставить Наяду на казаринском подворье – какое ему, Закатову, дело до того, что чужое имущество подохнет с голоду? Но, оборачиваясь и глядя на Наяду, легко и спокойно ступающую по вязкой дороге, – словно не было двадцати вёрст бешеной скачки, – он отчётливо понимал: оставить на погибель такое существо нельзя.
«Хороший хозяин и собаку дурную на улицу не выгонит – а тут лошадь, красавица, прекрасной стати и масти… да ведь это будет преступление! А разве не преступление – принимать взятки от последнего подлеца?!»
И тут же, споря сам с собой, Закатов думал о том, что принимают взятки по взаимному согласию, а в его случае о согласии и речи не было.
«Не ты ли нёсся вчера за Казариным чуть не с топором, как пьяный мужик за тёщей? Воможно, и убил бы, если бы не Дунька… Какая тут взятка?! И Казарин знал, что ты не возьмёшь… иначе не прислал бы Стёпку ночью, после своего бегства… Чёрт знает что… вот как теперь выкручиваться?!»
Домой Закатов прибыл далеко за полдень – и в воротах столкнулся со старостой Прокопом Силиным.
– Слава господу, воротился! – с облегчением встретил своего барина Прокоп Матвеевич. – Только сполоху наделал! Дунька твоя прямо ко мне примчалась: давай, кричит, Прокоп Матвеич, поезжай, смертоубийство в Прохоровке будет! А я подумал: чего коней зазря гонять… Мать-Богородица, это откуда же чудо такое?!
Закатов не успел ничего ответить – а Силин уже с молодой прытью нырнул под брюхо Наяде и завозился там, вздыхая от восхищения.
– Господи-и… Ножку дай, но-о-ожку, копытечко… Ты ж раскрасавица моя, голубица ерусалимская… Дай бабочки пощупать… А копытца… А коленочки… Ах ты, яхонт драгоценный… Изумруд, сущий изумруд! Как есть адамант-камень!
Закатов тем временем, сидя рядом на корточках, излагал ситуацию. Силин, казалось, и не слушал своего барина, всецело поглощённый осмотром красавицы-кобылы. Но выбравшись из-под брюха Наяды, он убеждённо заявил:
– Круглым дураком будешь, Никита Владимирыч, коли в Прохоровку её вернёшь. Нешто она виновата, что хозяин – шельма?
– Но, Прокоп Матвеевич… Она же всё-таки не моя!
– Как же не твоя, когда пачпорт ейный у тебя? – на голубом глазу удивился Прокоп. – Но я вовсе не имею права её брать…
– Постой, Никита Владимирыч, – нахмурился староста. – Может, я чего не уразумел, но ты же ведь в суд-то подавать всё едино не намерялся?
– Разумеется, не намерялся… тьфу… не собирался! Госпожа Влоньская прямо запретила мне это, и…
– Ну, и о чём речь тогда? – усмехнулся Силин. – Кабы ты хотел, а опосля сего дарованья передумал, – тогда бы и совеститься можно было. А коли господин Казарин пожелали себе таким макаром соломки подстелить – так вольному воля!
– Ну тебя с твоей соломкой! – выругался Никита… но продолжать не смог, потому что Силин расхохотался – откровенно и весело, блестя белыми, по-молодому крепкими зубами:
– Воистину, Бог дураков любит! Не сомневайся, Никита Владимирыч, бери кобылку да владай! Ибо сказано: просите – и дастся вам, стучите – и отопрётся! Ты поглянь, как она, бесстыдница, к Ворону тянется! Ну, барин, благодари Бога, – быть у тебя лошадиному заводу!
* * *
– Не хочу вас пугать, Владимир Ксаверьич, но это всё же дифтерит, – отрывисто сказал Михаил Иверзнев, выйдя из комнаты больной и тщательно прикрыв за собой дверь. – Все симптомы те же, что и в женском остроге. У меня трое ребятишек в лазарете умерло нынешней ночью… Меланья ещё не вернулась? Тьфу, хоть за смертью её посылай… Владимир Ксаверьич, да держите же себя в руках! Ещё ничего не кон…
– Б-боже мой… Боже… – начальник каторжного завода, неловко ухватившись за край стола, опустился в кресло. – Наташа… Это… невозможно, невозможно! Ей ведь и семнадцати ещё нет… Как же я не хотел, как боялся везти её сюда! Я предчувствовал, знал, что… что добром это не… Михаил Николаевич, у меня ведь никого, кроме неё, больше нет!
– Вы ни в чём не виноваты, – сухо сказал Михаил, останавливаясь у окна. – Дифтерит мог начаться где угодно – и в Иркутске, и в Петербурге. Сюда он пришёл с последней партией, и…
– Но неужто нельзя ничего сделать? Я уже послал в Иркутск за врачом… Ведь и у вас не все умирают в лазарете? – отчаянная надежда звенела в голосе господина Тимаева. Иверзнев пожал плечами:
– Ну… Выжило двое… из семнадцати. Дети все до одного перемерли. Эпидемия, куда деваться… Никакие средства профилактики не помогли. Да ещё и Устиньи нет, как на грех…
– Да будь она проклята, эта ваша Устинья! – визгливым, сорванным голосом завопил вдруг Тимаев. Этот вопль был так не похож на обычный, густой и покровительственный бас начальника, что Иверзнев невольно вздрогнул и отвернулся от созерцания растрёпанного можжевельника за окном. – Вы мне ручались за неё головой – а она сбежала! Вместе со своим мужем-убийцей! Мало мне было неприятностей на заводе, мало пожаров, мало бунта…
– Не было никакого бунта!
– Это вы МНЕ говорите? Мне – который неделю трясся за дочь и едва дождался казаков из Иркутска?!
Иверзнев только поморщился. Но Тимаева уже было не остановить:
– Вы, Михаил Николаевич, развели в своём лазарете сущую разбойничью вольницу! Вы и Лазарев, да-с, которого я, между прочим, вправе уволить! А то и подвести под суд за организацию побега каторжан! Четверо сбежали, шутка ли! Четверо – осуждённые за бунт, за убийство, за душегубство! Исчезли, как в воду канули! На виду у охраны, у казаков, у вас! Только не говорите мне, что ничего об этом не знали!
Иверзнев молчал, глядя в стену и сдвинув густые чёрные брови. Было очевидно, что он думает сейчас совсем о других вещах. Но Тимаев ничего не замечал:
– И у вас хватает совести!.. Хватает нахальства говорить мне, что будь здесь Устинья – и эпидемии бы не было! Да кто такая была эта Устинья?! Ваша фаворитка, с которой вы жили, не обращая внимания на её мужа, – и покровительствовали им обоим вовсю! А она плевать хотела и на вашу страсть, и на ваше покровительство!
Увидев барина, дворовые умолкли и дружно вытолкнули вперёд кучера.
– Извольте видеть, сама взялась, а я не конокрад! – обиженно заявил тот. – Тут, Никита Владимирыч, под утро сущая фанаберия была!
– Фанаберия?.. И я ничего не слышал? И не могли позвать, олухи?
– Так не насмелились будить… И Авдотья Васильевна осерчали бы! А наше ли дело с правительством спорить?
С большим трудом Закатову удалось выяснить, что перед самым рассветом, в густых потёмках, к болотеевской усадьбе подъехал всадник с кобылой в поводу. Ему пришлось довольно долго громыхать воротным кольцом, пока к нему не вышел заспанный Авдеич. Всадник оказался прохоровским мужиком Степаном, которому барин велел пригнать Наяду в Болотеево и оставить там, поскольку сия Наяда была куплена болотеевским барином.
– Что?.. – растерянно переспросил Никита, которому всё ещё казалось, что он досматривает ночной сон. – Я – купил Наяду?.. Авдеич, воля твоя, вы оба пьяные, что ли, были со Степаном?!
– Вовсе не были, барин! – обиделся конюх. – С самого Спаса себе не дозволяли! И то удивительно, что чуть ли не середь ночи пригнали лошадку-то, – будто и впрямь конокрады какие! Я поначалу и запускать отказывался, потому от вас приказу никакого не было, и не на что нам таковых красавиц покупать… да Стёпка тот пообещал просто под воротами Наяду кинуть! Потому велено ему так было! Да ещё какие-то бумаги за пазухой привёз, велел вашей милости передать…
Закатов молча протянул руку, и Авдеич с почтением вынул из-за ворота зипуна чистый холстинковый свёрток. Внутри оказался дворянский паспорт на имя госпожи Александры Михайловны Влоньской, а также паспорт лошадиный – на кобылу Наяду, чистокровную орловку вороной масти четырёх лет от роду. Последней выпала записка, начертанная неровным мужским почерком, в которой господин Казарин уверял господина Закатова в совершеннейшем к нему почтении и покорнейше просил принять в дар «сию безделицу» со всеми надлежащими документами.
– Принять в дар?.. – спросил Никита у обалдело взиравшей на него дворни… и вдруг разом всё понял. И выругался так, что привыкший ко всему Кузьма даже присел.
– Ах ты… с-с-сукин сын! Да не ты, дурак… Всё-таки додумался! Авдеич! Живо Ворона седлать мне!
Через несколько минут Закатов вылетел со двора верхом, а следом неслась привязанная к седлу Наяда.
Скакать до Прохоровки было неблизко, и, когда Ворон взлетел на последний холм, солнце уже стояло высоко над прозрачным, сквозным лесом и скошенными полями. Внизу была видна покосившаяся казаринская развалюха. Закатов галопом подлетел к имению, осадил коня – и въехал в ворота, мельком удивившись тому, что они с раннего утра распахнуты настежь.
– Позови барина! – велел он выбежавшей навстречу старухе.
– Так нету, кормилец! – удивилась та, щурясь выцветшими, подслеповатыми глазами на Никиту. – Ты, родной, кто будешь-то?
Закатов назвался – и через несколько минут уже знал, что барин и Глафира Прокловна уехали ночью, торопясь «как на пожар», и не сказались куда.
– То есть как – «не сказались»? – растерянно переспросил Закатов. – У господина Казарина это ведь единственное имение, если я не ошибаюсь? Куда же они поехали?
– Не могём знать, ваша милость… Нам никаких распоряжениев дадено не было. Только вот и велели лошадку вам отогнать, так Стёпка мой спозаранку управился… А что, неладное что-то с Наядкой-то?
Закатов ошарашенно молчал. Было очевидно, что Казарин попросту сбежал. «Чёрт, вот ведь положение… Что же теперь делать? Оставить Наяду здесь?»
– С голоду подохнет, ваша милость. – уверенно сказал подошедший Степан, и Закатов, вздрогнув от неожиданности, понял, что размышлял вслух. – Овса не боле трёх четвертей осталось, а нового в этом году и не сажали, потому барин всё едино Наядку продавать собирался. Не ко двору нам такая царица, сами изволите видеть… Коли и вам не надобна, продавайте поскорей. Чем же животная виновата, пошто её голодом морить? Ей у нас и так не мёд был, потому уходу за такой красотой не разумеем. И взять её никто из мужиков не согласится… разве что цыганам продать. Нашим-то рабочие лошадки нужны, а эту нешто можно в соху запрягать? Только ногу сломит в борозде, и всё… И то диво, что ноги целы и хвори никакой не прилипло!
– Ты прав, – задумчиво согласился Закатов. И всю обратную дорогу до Болотеева, пустив лошадей шагом, напряжённо думал, как ему теперь поступить. Принимать взятку от мерзавца Казарина он не собирался. Можно было, разумеется, гордо оставить Наяду на казаринском подворье – какое ему, Закатову, дело до того, что чужое имущество подохнет с голоду? Но, оборачиваясь и глядя на Наяду, легко и спокойно ступающую по вязкой дороге, – словно не было двадцати вёрст бешеной скачки, – он отчётливо понимал: оставить на погибель такое существо нельзя.
«Хороший хозяин и собаку дурную на улицу не выгонит – а тут лошадь, красавица, прекрасной стати и масти… да ведь это будет преступление! А разве не преступление – принимать взятки от последнего подлеца?!»
И тут же, споря сам с собой, Закатов думал о том, что принимают взятки по взаимному согласию, а в его случае о согласии и речи не было.
«Не ты ли нёсся вчера за Казариным чуть не с топором, как пьяный мужик за тёщей? Воможно, и убил бы, если бы не Дунька… Какая тут взятка?! И Казарин знал, что ты не возьмёшь… иначе не прислал бы Стёпку ночью, после своего бегства… Чёрт знает что… вот как теперь выкручиваться?!»
Домой Закатов прибыл далеко за полдень – и в воротах столкнулся со старостой Прокопом Силиным.
– Слава господу, воротился! – с облегчением встретил своего барина Прокоп Матвеевич. – Только сполоху наделал! Дунька твоя прямо ко мне примчалась: давай, кричит, Прокоп Матвеич, поезжай, смертоубийство в Прохоровке будет! А я подумал: чего коней зазря гонять… Мать-Богородица, это откуда же чудо такое?!
Закатов не успел ничего ответить – а Силин уже с молодой прытью нырнул под брюхо Наяде и завозился там, вздыхая от восхищения.
– Господи-и… Ножку дай, но-о-ожку, копытечко… Ты ж раскрасавица моя, голубица ерусалимская… Дай бабочки пощупать… А копытца… А коленочки… Ах ты, яхонт драгоценный… Изумруд, сущий изумруд! Как есть адамант-камень!
Закатов тем временем, сидя рядом на корточках, излагал ситуацию. Силин, казалось, и не слушал своего барина, всецело поглощённый осмотром красавицы-кобылы. Но выбравшись из-под брюха Наяды, он убеждённо заявил:
– Круглым дураком будешь, Никита Владимирыч, коли в Прохоровку её вернёшь. Нешто она виновата, что хозяин – шельма?
– Но, Прокоп Матвеевич… Она же всё-таки не моя!
– Как же не твоя, когда пачпорт ейный у тебя? – на голубом глазу удивился Прокоп. – Но я вовсе не имею права её брать…
– Постой, Никита Владимирыч, – нахмурился староста. – Может, я чего не уразумел, но ты же ведь в суд-то подавать всё едино не намерялся?
– Разумеется, не намерялся… тьфу… не собирался! Госпожа Влоньская прямо запретила мне это, и…
– Ну, и о чём речь тогда? – усмехнулся Силин. – Кабы ты хотел, а опосля сего дарованья передумал, – тогда бы и совеститься можно было. А коли господин Казарин пожелали себе таким макаром соломки подстелить – так вольному воля!
– Ну тебя с твоей соломкой! – выругался Никита… но продолжать не смог, потому что Силин расхохотался – откровенно и весело, блестя белыми, по-молодому крепкими зубами:
– Воистину, Бог дураков любит! Не сомневайся, Никита Владимирыч, бери кобылку да владай! Ибо сказано: просите – и дастся вам, стучите – и отопрётся! Ты поглянь, как она, бесстыдница, к Ворону тянется! Ну, барин, благодари Бога, – быть у тебя лошадиному заводу!
* * *
– Не хочу вас пугать, Владимир Ксаверьич, но это всё же дифтерит, – отрывисто сказал Михаил Иверзнев, выйдя из комнаты больной и тщательно прикрыв за собой дверь. – Все симптомы те же, что и в женском остроге. У меня трое ребятишек в лазарете умерло нынешней ночью… Меланья ещё не вернулась? Тьфу, хоть за смертью её посылай… Владимир Ксаверьич, да держите же себя в руках! Ещё ничего не кон…
– Б-боже мой… Боже… – начальник каторжного завода, неловко ухватившись за край стола, опустился в кресло. – Наташа… Это… невозможно, невозможно! Ей ведь и семнадцати ещё нет… Как же я не хотел, как боялся везти её сюда! Я предчувствовал, знал, что… что добром это не… Михаил Николаевич, у меня ведь никого, кроме неё, больше нет!
– Вы ни в чём не виноваты, – сухо сказал Михаил, останавливаясь у окна. – Дифтерит мог начаться где угодно – и в Иркутске, и в Петербурге. Сюда он пришёл с последней партией, и…
– Но неужто нельзя ничего сделать? Я уже послал в Иркутск за врачом… Ведь и у вас не все умирают в лазарете? – отчаянная надежда звенела в голосе господина Тимаева. Иверзнев пожал плечами:
– Ну… Выжило двое… из семнадцати. Дети все до одного перемерли. Эпидемия, куда деваться… Никакие средства профилактики не помогли. Да ещё и Устиньи нет, как на грех…
– Да будь она проклята, эта ваша Устинья! – визгливым, сорванным голосом завопил вдруг Тимаев. Этот вопль был так не похож на обычный, густой и покровительственный бас начальника, что Иверзнев невольно вздрогнул и отвернулся от созерцания растрёпанного можжевельника за окном. – Вы мне ручались за неё головой – а она сбежала! Вместе со своим мужем-убийцей! Мало мне было неприятностей на заводе, мало пожаров, мало бунта…
– Не было никакого бунта!
– Это вы МНЕ говорите? Мне – который неделю трясся за дочь и едва дождался казаков из Иркутска?!
Иверзнев только поморщился. Но Тимаева уже было не остановить:
– Вы, Михаил Николаевич, развели в своём лазарете сущую разбойничью вольницу! Вы и Лазарев, да-с, которого я, между прочим, вправе уволить! А то и подвести под суд за организацию побега каторжан! Четверо сбежали, шутка ли! Четверо – осуждённые за бунт, за убийство, за душегубство! Исчезли, как в воду канули! На виду у охраны, у казаков, у вас! Только не говорите мне, что ничего об этом не знали!
Иверзнев молчал, глядя в стену и сдвинув густые чёрные брови. Было очевидно, что он думает сейчас совсем о других вещах. Но Тимаев ничего не замечал:
– И у вас хватает совести!.. Хватает нахальства говорить мне, что будь здесь Устинья – и эпидемии бы не было! Да кто такая была эта Устинья?! Ваша фаворитка, с которой вы жили, не обращая внимания на её мужа, – и покровительствовали им обоим вовсю! А она плевать хотела и на вашу страсть, и на ваше покровительство!