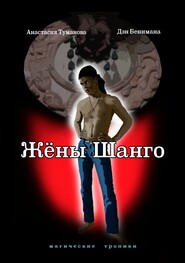По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цыганочка, ваш выход!
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Всё! Вставай, кобылища! Дальше на своих ногах у меня пойдёшь!
Не тут-то было. Эта паскуда не только не пошла, но, ехидно усмехнувшись, попросту разлеглась посреди дороги, закрыла глаза и перевернулась на живот, чтобы Семён мог полностью насладиться двумя кукишами. Их Симка прекрасно изобразила даже связанными руками.
– Ну, мишто… мишто, – негромко сказал Семён, чувствуя, как темнеет в глазах от ярости. – Хорошо, сестрёнка. Сидеть так сидеть.
Белое степное солнце зависло в выцветшем, звенящем от зноя небе. Прозрачное марево дрожало над травой бесцветными, переливающимися волнами. Неподвижно торчали стебли ковыля, монотонно цвиркали кузнечики. Высоко-высоко, почти невидимые глазу, парили над курганами ястребы. Изредка проскакивала через дорогу суетливая перепёлка с выводком шариков-птенцов. Душный день перевалил за полдень, небо на западе опять взбухало лилово-чёрной грозовой полосой. Поглядывая на неё, Семён с тоской думал о том, что через час их накроет грозой в чистом поле. Во рту давно пересохло, желудок, в котором с позавчерашнего дня не было ни крошки, скукожился от голода. Курево – и то осталось в вагоне, а при очередном воспоминании о покинутом вороном к горлу подступил ком.
– Симка, девочка, хватит тебе дурить, – сиплым от жары голосом попросил он, покосившись на запрокинутое к небу, покрытое коркой подсохшей грязи лицо сестры. Она лежала так уже четвёртый час, не шевелясь, не поднимая ресниц, и не оборачивалась, когда брат время от времени окликал её. Не обернулась она и сейчас.
– Ну скажи, холера упрямая, сколько ты этак собираешься? – мрачно спросил Семён. – Всё едино пить-жрать захочешь – встанешь. И я хоть подохну, а в табор тебя отволоку. Пусть и на своём горбу.
Не тут-то было. Эта паскуда не только не пошла, но, ехидно усмехнувшись, попросту разлеглась посреди дороги, закрыла глаза и перевернулась на живот, чтобы Семён мог полностью насладиться двумя кукишами. Их Симка прекрасно изобразила даже связанными руками.
– Ну, мишто… мишто, – негромко сказал Семён, чувствуя, как темнеет в глазах от ярости. – Хорошо, сестрёнка. Сидеть так сидеть.
Белое степное солнце зависло в выцветшем, звенящем от зноя небе. Прозрачное марево дрожало над травой бесцветными, переливающимися волнами. Неподвижно торчали стебли ковыля, монотонно цвиркали кузнечики. Высоко-высоко, почти невидимые глазу, парили над курганами ястребы. Изредка проскакивала через дорогу суетливая перепёлка с выводком шариков-птенцов. Душный день перевалил за полдень, небо на западе опять взбухало лилово-чёрной грозовой полосой. Поглядывая на неё, Семён с тоской думал о том, что через час их накроет грозой в чистом поле. Во рту давно пересохло, желудок, в котором с позавчерашнего дня не было ни крошки, скукожился от голода. Курево – и то осталось в вагоне, а при очередном воспоминании о покинутом вороном к горлу подступил ком.
– Симка, девочка, хватит тебе дурить, – сиплым от жары голосом попросил он, покосившись на запрокинутое к небу, покрытое коркой подсохшей грязи лицо сестры. Она лежала так уже четвёртый час, не шевелясь, не поднимая ресниц, и не оборачивалась, когда брат время от времени окликал её. Не обернулась она и сейчас.
– Ну скажи, холера упрямая, сколько ты этак собираешься? – мрачно спросил Семён. – Всё едино пить-жрать захочешь – встанешь. И я хоть подохну, а в табор тебя отволоку. Пусть и на своём горбу.