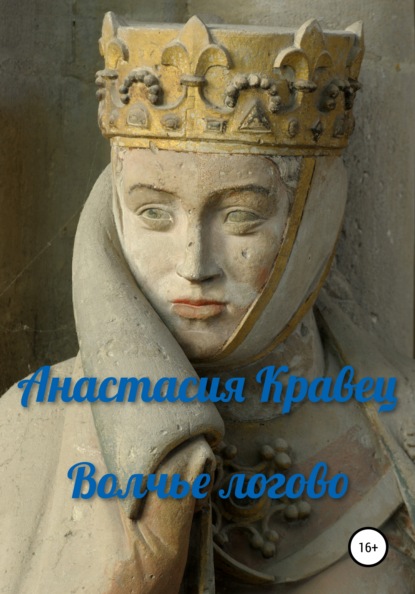По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Волчье логово
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уставший и подавленный, Жиль тоже попросил разрешения пойти со всеми в церковь, что было ему тут же позволено.
При мягком, матовом свете снежного вечера храм уже не казался таким мрачным, каким он предстал перед взором горожанина в первый раз. Чуть заметное свечение, разливавшееся по старой церкви, было светлого, нежно-голубого цвета. Оно напоминало таинственный лунные лучи в теплую, летнюю пору, когда мошкара танцует у яркого пламени свечи… Искры, вспыхивающие на многочисленных витражах, блистали ровным, золотистым оттенком. Под изящными, высокими сводами было гораздо светлее. На этот раз вся обстановка рождала возвышенные мысли, дарила жизнерадостное настроение и манила надеждой…
В церкви аббата и графа Леруа уже ожидала вся скромная братия. Брат Колен выступил вперед и почтительно произнес:
– Сегодня монсеньор сможет взглянуть, на какие благочестивые дела идут его щедрые пожертвования. Наша несчастная обитель часто подвергалась бедам и испытаниям. Не успела она отстроиться, как половину витражей уничтожил внезапный пожар, а другую – грозная буря… Но, с Божьей помощью, мы понемногу восполняем эту потерю. Увы, монастырь наш скромен и беден, у нас не хватает средств, чтобы нанять какого-нибудь знаменитого художника для росписи витражей. Поэтому нам приходится довольствоваться услугами брата Ульфара и брата Жозефа, которые обучены этому искусному ремеслу. Идемте, монсеньор, они покажут вам свои незатейливые творения.
Возле одной стены, прорезанной рядом высоких окон, стоял Ульфар, спрятав руки в широкие рукава сутаны и пристально глядя на свои рисунки, покрывавшие цветные стекла.
Сеньор де Леруа стал с увлечением разглядывать сиявшие перед ним серебристые витражи.
На первом окне была изображена святая Троица во всем своем неземном блеске и величии. Она как бы открывала длинный ряд остальных картин, на которых мощным и широким потоком развертывалась библейская история.
Все начиналось с сотворения мира, с цветущих райских садов, изобилия живности и диковинных трав. Но светлые и мирные краски очень быстро сменялись более драматичными и темными.
Вот вздорная, легкомысленная и злонравная Ева с преступным удовольствием слушала сладкие речи лукавого Змия. На ярких устах ее играла смутная, сладострастная улыбка. А Змий с человеческой головой изящно изгибался вокруг ствола могучего зеленого дерева. Ева грациозно склоняла к нему свою хорошенькую и глупую голову…
Следующая картина повествовала об изгнании своевольных и неразумных людей из светлого и прекрасного рая. Несчастный Адам, погубленный своей коварной супругой, рыдая, закрывал пылающее от стыда лицо. Ева же, обернувшись к зрителям, торжествующе и дерзко улыбалась.
Эти драматичные сцены как бы говорили людям, созерцавшим их, о краткости и непрочности человеческого счастья, о порочности женской природы, о греховности и безумии людей, не имеющих сил противостоять хитрым и тонким ухищрениям Сатаны. Они призывали быть настороже: повсюду грех, порча и погибель!
Другой витраж со всей беспощадностью живописал ужасы всемирного потопа. Огромные, свирепые волны неудержимой стихии вздымались до небес. На лицах людей застыли отчаяние и жестокий страх, руки были подняты в напрасной мольбе… Чудовищные волны, то тут, то там разлучали мать с ребенком, жену с мужем, брата с сестрой… А где-то на заднем плане картины виднелся маленький Ноев ковчег, счастливо избегший неистовства стихии и стремящийся к новой, безгрешной жизни…
И опять картина говорила о хрупкости и скорой гибели ужасного, грешного мира, о ничтожности и безумии рода людского… И спасутся единицы из тысяч! Но кто из нас праведник?
Грандиозное зрелище всемирного потопа сменялось изображением светлой и дивной лестницы Иакова, явившаяся ему в пророческом сновидении. Бесплотные, прозрачные души, прилагая усердные усилия, устремлялись по ней ввысь. Но достигнет ли хоть одна из них конца нелегкого пути?.. Вершина божественной лестницы терялась и таяла в необъятных, холодных небесах…
Далее взор останавливался на юном Давиде, попиравшем ногою тело поверженного чудовищного Голиафа. В чертах победителя читалось жестокое торжество, без проблеска милосердия к павшему врагу… Не так ли и великая церковь Христова в конце концов одержит победу над язычниками, святотатцами и еретиками, над всеми подлыми врагами христианской веры?..
Следующий витраж являл несчастного прокаженного Иова, восседающего на гноище, и в своем ужасном и невежественном ослеплении посылающего жалобы Всевышнему. Страдальческое лицо и удивительная худоба Иова вселяли в душу зрителей тревогу и печаль… Как жалок и ничтожен всякий смертный, как он полон мерзости, как горька его заслуженная доля!
На этом ветхозаветная история на рисунках брата Ульфара заканчивалась, и начинались эпизоды из жизни Иисуса.
На сценах детства Христа Ульфар не останавливался, с самого начала он живописал удивительные и великолепные чудеса, совершенные Спасителем за время его пребывания на земле. На одном витраже их было представлено множество: Иисус то воскрешал погребенного Лазаря, то усмирял бесноватого, то излечивал безнадежных больных, то изгонял бесов, вселившихся затем в стадо свиней… На все эти удивительные и великие деяния с трепетом взирала пораженная и потрясенная невежественная толпа.
Далее шла вдохновенная проповедь апостола Павла. Седобородый старец с суровым и замкнутым лицом произносил пылкую, мрачную речь, неистово сверкая очами…
Два окна еще продолжали оставаться почерневшими от пожара и не расписанными заново.
С последнего же витража на смущенных зрителей взирал грозный, вопрошающий, неумолимый Иисус на Страшном суде во всем блеске своего величия и славы. Его окружало темное, грозовое облако, и сами очи, казалось, метали молнии, готовые испепелить несчастных грешников, простертых у его ног. Берегитесь, смертные, близок, близок час заката и гибели этого умирающего мира! Близок суд, близки ужасы пылающего ада!
Все рисунки брата Ульфара поражали редкой правильностью и гармонией линий, неподвижностью и величием застывших поз, суровостью и отрешенностью лиц и тягостной мрачностью колорита. Они были окрашены в синие и темные, холодные тона, кое-где разбавленные белым и серебристым. Горько и печально становилось на сердце у людей, когда они созерцали его творения. Стыд и страх поселялись в душе. Стыд за свою грешную, неисправимую природу и страх перед грозным божьим судом и ужасами огненного ада…
Долго и внимательно рассматривал Гильом де Леруа картины святого брата. Наконец он произнес:
– Ваши рисунки в высшей степени прекрасны и поучительны. А что же вы намерены изобразить на оставшихся двух окнах?
– Распятие и Вознесение Господа нашего Иисуса Христа, – перекрестившись, отвечал брат Ульфар.
– Весьма похвальное намерение…
И все отправились ко второй стене, где, опустив голову, задумчиво и одиноко стоял бледный и измученный недавней ссорой брат Жозеф.
Здесь перед пришедшими предстало совершенно иное зрелище.
Неожиданно и внезапно картина открывалась сценой убийства Авеля его непокорным и неистовым братом. Из уст поверженного на землю Авеля катились алые, как лучи заката, капли крови, в полуудивленном, полуиспуганном взгляде застыл ужас и немой вопрос. Угрюмый и бледный, стоял над ним одинокий и отверженный Каин, и с горечью, но без тени раскаяния, созерцал жестокое дело рук своих… На лицах братьев, как отсвет пламени, еще пылало неистовство ссоры, но в растерянных и печальных глазах уже замерла глубокая, черная тоска…
На соседнем витраже зрителей встречал коленопреклоненный Моисей, затерянный в далекой, мрачной пустыне. Народ его покинул своего пророка, и он, в отчаянии стиснув пальцы, посылал к небу жаркие и страстные мольбы о желанной, неведомой земле… Но безответное небо было равнодушно к его страданиям…
Дойдя до этого витража, Жиль дель Манж присмотрелся внимательнее, и в чертах Моисея ему почудилось смутное сходство с отцом Франсуа…
Печальное одиночество Моисея составляло странный контраст с дивным одиночеством Ребекки, замечтавшейся у своего колодца в предчувствии любви и новой жизни. Она была нечеловечески прекрасна и совершенно непохожа на других людей. Под сияющим белизной покрывалом черными змеями вились длинные, великолепные косы. Огромные, черные глаза сияли, как звезды в жаркую ночь. Красные, как гранат, губы таинственно улыбались. На тонких руках висели золотые браслеты. Казалось, вот-вот она шевельнется, и раздастся тихий, мистический звон…
Безмятежное счастье юной Ребекки сменялось драматической и напряженной картиной. Благородный, облаченный в позолоченные наряды, великий царь Давид отправлял на войну своего верного слугу Урию. Недоверчиво и печально оглядывался Урия на своего величественного господина, под доброжелательной и приветливой маской которого смутно проступали стыд, озлобленность и тревога… Позади них стояла красивая, роскошно разодетая женщина и мрачно и косо смотрела в их сторону. В лице царя Давида можно было уловить едва приметное сходство с благородным графом Леруа, в лице Урии – с неистовым бароном де Кистелем. У Вирсавии были вьющиеся непослушными кольцами рыжие волосы…
На следующем витраже, под раскидистым зеленом деревом, вели задушевную и нежную беседу царь Соломон и царица Савская. Царица представала во всем блеске своей экзотической, восточной красоты. Она сидела на пушистой траве в грациозной и задумчивой позе, держа в руке только что сорванную маленькую маргаритку. А быть может, цветок был подарен ей изысканно любезным царем Соломоном, который тоже почему-то напоминал почтенного аббата… Беседующие люди не сводили друг с друга восхищенного и восторженного взора…
И снова в очаровательные картины счастья врывалась жестокая, преступная и вопиющая действительность. Рыжая женщина, в алом блестящем одеянии, со сверкающими браслетами танцовщицы на ногах, несла в руках блюдо с отрубленной, окровавленной головой. В ее лице не было ни радости, ни торжества, а только недоумение и смутная горечь читалась в дрожащих губах и медленных, тяжелых движениях… Жиля вновь поразило сходство Саломеи с баронессой де Кистель. Отрубленная голова Иоанна Крестителя со слипшимися от крови волосами и с чертами уже тронутыми тленьем имела лицо самого брата Жозефа!
Дальше шло несколько окон, безжалостно разбитых бурей и острыми ветвями деревьев. Расколотые, потемневшие стекла одиноко и угрожающе торчали в них, подобно твердым, черным скалам на берегу бушующего моря…
Потом начинались сюжеты из Нового Завета.
С одного из витражей на зрителей пристально смотрели мудрые евангелисты со старыми свитками в руках. Хорошенько приглядевшись, можно было узнать в каждом из них кого-нибудь из благочестивых братьев. Так восторженно и неистово созерцающий видения Иоанн имел сходство с братом Ульфаром. Спокойный и уравновешенный Лука – с Коленом, пылкий и вдохновенный Матвей – с аббатом. А загадочный и скучающий Марк, небрежно опустивший руку со свитком, смуглым цветом лица напоминал самого художника.
Следующая картина изображала одинокую молитву Иисуса в Гефсиманском саду, в ночь перед его арестом. В темном, усыпанном сверкающими огоньками звезд, ночном небе парила волшебная чаша, излучавшая чудесный свет. Но печальный и отрешенный Христос не смотрел на нее. Его голова была грустно опущена, руки бессильно повисли, как плети…
Далее следовал предательский поцелуй Иуды, стоявшего в окружении римских легионеров. Лица Иуды не было видно, он крепко сжимал в объятиях грустного и страдающего Спасителя…
Заканчивалась эта удивительная вереница сюжетов так же внезапно, как и начиналась. У пустого креста сидела сгорбленная, одинокая женщина в траурном черном покрывале. Эта была все та же загадочная чужестранка, только постаревшая и поседевшая. Но каким же глубоким и горьким нечеловеческим горем дышало ее столь прекрасное когда-то лицо!
В картинах брата Жозефа, казалось, не было связи и единого плана, как в рисунках Ульфара. Эпизоды жестокой борьбы сменялись зрелищем безмятежного счастья, а оно, в свою очередь, легко переходило в безысходное, мучительное страдание… Под стать сюжетам, была и нервная, пламенная манера художника. Рисунки поражали неровными, резкими, изломанными и дерзкими линиями. На витражах неистовствовал сверкающий хаос красок. Синее и зеленое тонуло и угасало в черном, только для того, чтобы в следующее мгновенье озариться пламенем алого.
Мир, изображенный Жозефом, был недобрым, жестоким и печальным, как и у брата Ульфара. Но если картины фламандца подавляли своим величием и заставляли думать о собственном ничтожестве, то рисунки сарацина на некоторое время оставляли в растерянности… О чем они говорили? Они тоже порой внушали ужас и отталкивали, но тут же снова приковывали тонущий в них завороженный взор, точно глубокая пропасть, которая то отталкивает, то снова притягивает смотрящего. Яркие картины счастья и отчаяния, грехов и страстей воскрешали в сердцах далекие воспоминания, касались затаенных струн души, будили горячее сочувствие к чужим драмам, шептали о чем-то родном и невероятно близком…
Не мог оторваться от них и благородный граф Леруа.
– Право, никогда я не видел ничего столь удивительного и столь ранящего душу, – наконец искренне признался он. – А что будет на разбитых окнах?
Пробужденный от своей глубокой задумчивости вопросом графа, Жозеф резко вскинул голову. Несколько мгновений он сосредоточенно хмурил брови, потом ответил упавшим голосом:
– Не знаю…
– Ваше удивительное искусство порадовало и растрогало меня, любезные братья, – обратился граф к обоим монахам. – Мир, изображенный вами, Ульфар, мрачен и страшен. Он гибнет, и мы гибнем вместе с ним. А ваш мир, Жозеф, замкнут и печален, он полон страстей и отчаяния. Это круг страдания, из которого нет выхода. У этого мира нет конца…
С этими словами благородный граф покинул монастырь, так как было уже поздно, и вечерние сумерки сгустились на дворе.
Брат Ульфар позвал с собой Жозефа, и они вместе отправились в мастерскую, где у них еще остались неоконченные дела.