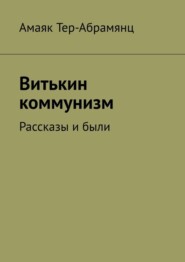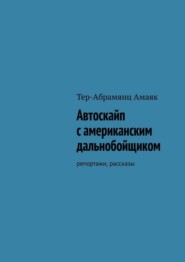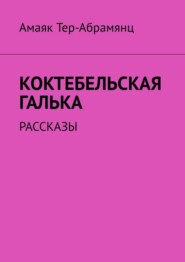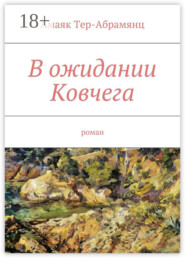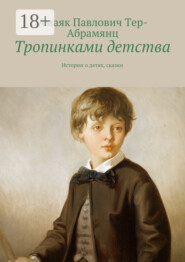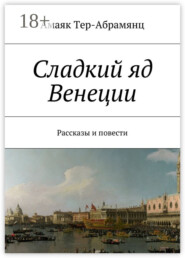По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я умер в Нахичевани. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Может ли быть так, чтобы мы испытывали чувства глубокой приязни и симпатии к людям, которых никогда не видели и не увидим на этом свете, к людям от дня гибели или смерти которых нас отделяет столетие? У меня есть такой человек – мой армянский дед волостной писарь Нахичеванского уезда Левон Тер-Абрамянц. Когда я вспоминаю о нём, то чувствую вокруг и в себе мягкое дружественное тепло. Может быть так подаёт мне знак его душа. И вот я решил приостановить свои дела и разобраться по тому немногому, что я знаю, что это был за человек и почему меня такое чувство, чувство его присутствия посещает. В нём тёплая радость и чуть-чуть печали недосказанности, не случившегося – не случившихся тёплых задушевных бесед полных человечной мудрости, наивного удивления изменившимся миром – впрочем, надеюсь, они впереди… Сквозь все катастрофы прошла лишь одна фотография на паспарту с его изображением и то в группе крестьян и крестьянок у гроба убитого злодеем соседом мальчика за нечаянно разбитое в шалости стекло, красивое лицо которого ещё не тронуло разложение смерти. Дед выше окружающих. Дед стоит в ногах гроба, одетый, как и все крестьяне – картуз с узким лаковым козырьком, глухая, до подбородка не то рубаха, не то куртка без пуговиц, (толстовка?) лицо простое, с крупными мягкими чертами, смуглое, совсем крестьянское, но глаза, напряжённо устремлённые в объектив, будто страстно вопрошают: «Где справедливость, где Бог?» В этих глазах душа сострадающего. Итак, что я знаю о нём, о его жизни в период до Катастрофы? На фото он уже выглядит не молодым, лет пятьдесят, наверное, по нашим меркам возраст не такой уж преклонный, по меркам прошлого – подступы к старости. Родился он в селе Айлабад Нахичеванского уезда Эриванской Губернии, что на самом берегу Аракса и в трёх километрах от Нахичевани, в семье армянского священника Арутюна Тер-Абрамянца. Арутюн Тер-Абрамянц был человеком не бедным, хотя и крестьянского труда не гнушался: кроме виноградника и сада был в его собственности небольшой лесок, а дерево в тех засушливых практически не знающих зимы почти безлесных местах было великой ценностью. Но высшей его ценностью был родник, ибо в тех местах вода воистину была на вес золота. Огороды и сады орошались прорытыми канальчиками с водой, за использованием которой бдительно следили, и не было страшнее греха, чем ночью перенаправить воду от сада соседа себе. За такое воровство убивали и, кажется, такая расправа в этих местах не вызывала у людей возмущения ибо все понимали, что вода – это жизнь. До сих пор помню, с каким удовольствием отец пил обычную воду в жаркий день из стеклянного графина в подмосковном Подольске, несмотря на то, что с тех пор как он покинул те места миновало более полувека и большая часть жизни его прошла среди лесов и болот средней полосы, в России и Эстонии.
О прадеде моём человеческая память донесла, что он был головой четырнадцати армянских деревень. Жена умерла раньше его, он жил вдовцом и последние годы жизни любимым его занятием было питие вина вприкуску с рафинадным сахаром, бывшим в то время деликатесом. Иногда он пытался избавиться от этой привычки, отдавая ключи от подвала с каррасами, в которых томилось вино, слуге Нико со словами: « Как бы я ни просил к вечеру ключи, не давай их мне, иначе – уволю!“ Наступал вечер и Арутюн принимался ходить за слугой, выпрашивая ключи, сначала по-хорошему, но рано или поздно доходил до кипения: „Если сейчас же не дашь ключи – уволю!“ и бедный слуга был вынужден нарушать утреннее распоряжение хозяина. Умер прадед в 1906 году на родной земле в собственной постели. У него осталось пять уже вполне взрослых и самостоятельных детей. Три сына – Левон (мой дед), Арам, Мамикон и две дочери.
Судя по тому, что мой дед на фото выглядит на пятьдесят, а фото произведено до Катастрофы1915 – 1921 годов, родился он примерно около 1865 года. Закончил высшее реальное училище на русском языке в Нахичевани и получив назначение волостного писаря, поселился в селе Шихмамуд.
Село Шихмамуд (уже азербайджанское) я видел из окна автобуса, который перевозил московских туристов уже после событий в Сумгаите. Мы были, наверное, последними туристами из России в этих краях: через какие-то полтора месяца в Армении произошло страшное землетрясение, здесь началась война и коммунистами слепленный из великой Российской Империи Советский Союз стал разваливаться. Белые домики вдали на фоне театрально живописных невысоких голубых гор с крупной крутой, напоминающей зуб горой справа, в сторонке – выбивающаяся из общего горного пейзажа, но придающая тем самым ему индивидуальность – Змеиная Гора. Женился дед Левон на Софье Абрамовне Масумовой девушке из многодетной семьи. В этой женитьбе вряд ли было много романического, страстного, для наших предков брак был делом слишком серьёзным, чтобы его полностью отдавать на откуп чувству, скорее брак здесь был по взаимной симпатии, взаимоуважении и практическому расчёту на здоровых детей с учётом минимума обеспеченности, и возможности физического выживания. Мой отец вспоминал о матери (моей бабушке Масумовой): „Мать была среднего роста, обладала красивой внешностью, тонкими правильными чертами лица и стройной слаженной фигурой. Грамоте обучалась в объеме трехклассной армянской церковно-приходской школы. Она прекрасно владела искусством кройки и шитья, а также художественным рукоделием, которым обучилась сама, наблюдая за работой других женщин. Мать отличалась строгим характером и энергичностью, умело руководила всем семейством. Несмотря на свою молодость, она умело и успешно выполняла все виды работ домашенго хозяйства полусельского уклада нашей жизни. Здоровье её было слабое – постоянно донимали кашель, который особенно усиливались по вечерам, и боли в суставах. Медицинской помощи тогда однако на территории волости не существовало: каждый лечился сообразно различным советами знахарей и шаманов.“ Положение волостного писаря давало гарантию постоянного „куска хлеба“. Сейчас, во время сплошной грамотности, наверное, не просто представить себе роль писаря в то время. Деда моего, как свидетельствует отец, „все уважительно величали мирза Левон (мирза – по-персидски писарь). Он был постоянно погружен в свои служебные обязанности. Человек он был скромный, характера мягкого и добродушного. К спиртным напиткам питал органическое отвращение – даже в гостях обходился от рюмки натурального виноградного вина. Среди большинства сельских жителей за отцом утвердилась репутация ученого человека, владеющего как устно, так и письменно, армянским и русским языками. Одновременно с признанием его достоинств существовало распространенное мнение, что он совершенно лишен практичности, способности к любой другой работе, кроме писарской.“ Это был, по всему судя, тип сельского интеллигента, честно исполняющего свою работу, много читающий выписываемые журналы и газеты. Поделиться своими отвлечёнными, далёкими от практической жизни села мыслями ему было не с кем, и он только ходил по дому взад и вперёд, будто над чем-то размышляя, и, наконец, останавливаясь, глубокомысленно произносил, одобрительно, осуждающе или будто чему-то удивляясь: „Да-а-а!“. Внутренний мир имел для него, видимо иной раз даже большее значение, чем внешнее окружение. Об этом свидетельствует необычная его рассеянность: по должности он носил кольт, но нередко забывал его в гостях и оружие приносили ему домой. Уважением и авторитетом односельчан он пользовался особенным и честности человек он был необыкновенной. Как-то волостной суд, рассматривал дело. Юноша из бедной голодающей семьи украл два бревна. Хозяин брёвен, богач, настаивал на уголовном наказании юноши. Возник горячий спор. Наконец, богач объявил: „Хорошо, тогда пусть будет так как скажет Тер-Абрамянц!“ Левон Тер-Абрамянц подумал и сказал: „А я бы ему эти брёвна подарил!“
Из воспоминаний отца: „В нашей семье было пять детей: из них две девочки – Сирануш и Айастан, трое мальчиков – я, Амаяк (отец, попав в Россию изменил своё имя на Павел), Цолак и Сурен. Все мы родились в селе Шихмамуд. Среди детей я был третьим по счету – родился 5.12. 1909г. По возрасту сестры были старше, а братья младше меня. Своим озорным поведением я много тревог и забот доставлял своим родителям. За проделки от отца получал словесные замечания, а от матери чаще физические меры внушения. Практические результаты этих различных методов воспитания были ничтожны. В селе Шихмамуде я с 7 до 9 лет учился в трехклассной церковно-приходской школе, где преподавание велось на армянском языке священником Тер-Татевосом. На уроках по невнимательности и недисциплинированности был вне конкуренции. В особых случаях Тер-Татевосов весьма чувствительно потчевал меня по голове линейкой или другим плотным предметом. При отсутствии элементарного прилежания арифметика, чтение и «письменность» еле давались мне. Еще хуже усваивал Закон Божий, домашние задания не выполнял. Дома никто не следил за ходом моих занятий. Однажды в конце первого года учебы, желая повторить пройденный материал, я просматривал свою тетрадь и к моему удивлению в ней ничего не смог понять. Для меня оказалось неожиданным и отсутствие какой-либо последовательности в тетрадных записях. В них не было ни начала, ни конца. Обнаружилось, что каждый раз открывая тетрадь, писал на первом попавшемся чистом листе, в одном случае сверху вниз, в другом – снизу вверх. Убедившись в безнадежности разобраться в чём либо, я оставил тетради и призадумался. Мать, наблюдая за мною, заметила моё необычное состояние, взяла тетради, перелистала страницы и взволновано сказала, что я превзошёл всех мудрецов и вряд ли кто из них окажется в состоянии истолковать что в них написано. В результате, при всём уважении к отцу, я был оставлен на второй год в первом классе.“ „Но следующий год был не удачней предыдущего; успеваемость продолжала оставаться весьма и весьма низкой. После двухлетнего пребывания в первом классе с натяжкой был переведен во второй. Теперь я помню, что мои знания тогда заслуживали следующих оценок: арифметика – 2, чтение и письмо – 1, Закон Божий – полная неспособность. Однажды в конце учебного года отец мой при мне спросил учителя относительно моей успеваемости. Тер-Татевосов ответил: «Три пишем – два в уме!» Однако, добросердечный Левон купил своему девятилетнему сыну, поддавшись на его просьбы, прелестного жеребца. Мой отец рассказывал, какая для него это была радость: он всячески ласкал и ухаживал за ним и целыми днями скакал на нём по улицам и окрестностям. И, глядя на это, Левон Тер-Абрамянц только вздыхал: «Пастухом будет!». И в голову ему прийти не могло, что безалаберный мальчик станет когда-то блестящим хирургом. «светилом медицины», учёным… Жизнь и смерть непредсказуемы. А любовь к лошадям сохранилась в нём навсегда. «В Шихмамуде родители снимали жилье, покупали муку, из которой пекли хлеб – покупали лаваш, мясо, овощи, фрукты и т. д. Из домашних животных имели одну корову и две овцы. Насколько я теперь могу судить, при соблюдении строгой экономии жили в среднем достатке. В нашей семье между родителями я не помню громких конфликтов, тем более, непозволительной брани».
Крушение Российской империи было для деда крушением жизни. В 1918 году семья вынуждена была бежать из насиженных мест, спасаясь от физического истребления турками и соседями азербайджанцами. Мир стал другим. В войну и голод грамотность и культура становятся никому не нужными, в это время торжествуют звериные инстинкты выживания. В один момент уважаемый немолодой человек, отец семейства стал нищим беженцем, утеряв свой внутренний мир, впал в депрессию и превратился в беспомощного ребёнка, а все практические усилия по выживанию взяла на себя хрупкая женщина София, его жена. Они прошли пешком через многие армянские деревни, но далеко не всегда их встречали с сочувствием: в то время возникло дикое суеверие, рождённое животным страхом, что помогая беженцу, ты навлекаешь беду на свой дом. Два последующих года нищеты и беженства стали мучительным путём деда Левона к могиле: схоронив трёх детей и жену, он умер от тифа в Эриванском госпитале, и тело его было сброшено в общую могилу и залито хлоркой.
Из семьи выжили лишь сестра, которую муж увёз к себе в Луганск, да чудом выжил самый непослушный и озорник из трёх братьев (мой отец). Случайно ли?.. Отец совершил невероятное: из обречённого на голодную сметь беспризорника и сироты он стал уважаемым человеком, учёным, доцентом, «хирургом золотые руки». Но характер его был тяжёлым. В старших классах у меня некоторое время была привычка вставать из-за письменного стола, прогуливаться по квартире или садиться в кресло с восклицанием: «Да-а!», будто заключающим очередной абзац в тексте жизни. – Откуда у тебя это? – удивился отец, впервые услышав моё «Да-а!», – ты прямо как твой дед! В самом деле, откуда? Ведь в то время мне о деде абсолютно ничего не было известно! Иногда я думаю, что внутреннее духовное сходство и сродство передаётся не по прямой линии от отца к сыну, а через поколение. Отцы имеют деспотическую привычку видеть в сыновьях собственное продолжение, но сыновья стремятся к самостийности, они не хотят быть чьим-то продолжением, они желают быть самими иметь своё собственное лицо. Здесь заложена причина почти неизбежного расхождения интересов и даже отчуждение от родителя. К сожалению, взаимное отрицание отца и сына является, видимо, каким-то природным законом. Трудно представить более перпендикулярных во всём личностей, чем я и отец и, воздавая ему уважение за то многое, что он сделал в моей жизни, я тем не менее не чувствую исходящего с той стороны тепла, а вот со стороны деда, с которым в жизни не встречался, такое тепло чувствую! Странно! Впрочем, вся наша жизнь сплошная странность, сплошные парадоксы, то и дело ломающие линейную траекторию логики. В самом деле, взять даже отношение к Бахусу: прадед священник в этом плане, мне кажется, были близки. Конечно, отец прошёл войну, страшную Ленинградскую блокаду и всё же спиртное оказывало на него крайне негативное действие – он становился агрессивно непредсказуем, что порождало дома тяжёлую атмосферу. И не в этой ли черте прадеда кроется полный отказ деда Левона от спиртного? Было это причиной того, что будучи школьником я клялся не брать в рот спиртного, и в самом деле первый бокал шампанского я принял лишь на выпускном вечере. Конечно, в дальнейшем студенческая и московская среда привечали меня к выпивке всё чаще, но за редким исключением я не терял контроля над собой и никогда не выражал к окружающим агрессии. Да и моя тяга к литературному труду, написанию букв, к созданию внутренних миров не роднит ли меня больше с дедом, нежели с сугубо практическим складом отцовского ума? И если ты меня слышишь, дедушка Левон, я шлю тебе Привет!
Возводящий мосты
Перед новым годом приводил в порядок книжную полку, и вдруг из неё выскользнула старая, ещё советского времени, уже слегка поблекшая цветная открытка: древний армянский одноарочный мост через пенящийся распластанный по камням голубой поток. Небо армянское словно выцветший голубой плат, ни облачка, видны коричневые грубо обтёсанные камни кладки начала моста, изящная гладко отшлифованная арка нал водою… Сразу почувствовался сухой жаркий воздух Армении, студёность потока от которой быстро, до ломоты костей немеют опущенные в него стопы, его сила, словно сваливающая борцовская подсечка по голени, имевшему легкомыслие перейти его, обманувшись впечатлением детской глубины… Перевернул открытку и прочитал: «Армянская ССР, Агаранадзорский мост, памятник архитектуры 13 века.» А сколько таких больших и маленьких мостов в горной Армении? И найдутся тысячелетние, которые служат до сих пор… Они такие же памятники архитектуры в этой стране как храмы и хачкары, немые свидетели древней истории. Они соединяли людей, без них не было бы государства. По ним проходил Великий Шёлковый путь, и их же нередко сотрясали копыта лошадей орд завоевателей, они вписывались в узор судеб человеческих и мира. Но прежде всего, увидев этот мост, я вспомнил старого мостостроителя Сурена Саркисовича Мэйтарчиана, его фиолетовый старенький берет, глубокие чёрные мудрые глаза и его необычную судьбу.
Было это на последних курсах медицинского института. Мама сняла мне комнату в Москве у милой пожилой пары – Сурена Саркисовича и Любовь Петровны Мэйтарчан. Был он старый мостостроитель на пенсии. Года полтора я у них прожил, если не больше.
Почти на окраине Москвы, за метро ВДНХ, на улице Докукина в белом кирпичном девятиэтажном доме на первом этаже в трёхкомнатной квартире: две комнаты смежные и одна с выходом на лоджию – отдельная, её то мне за совсем небольшую ежемесячную плату мне и предоставили. Хорошее место, тихое: весной и летом я спал с дверью открытой на лоджию, погружённый в заоконную свежесть. За лоджией стояла зелёная стена листвы, из-за которой изредка доносился свист тепловозов, проложенной недалеко железнодорожной ветки.
Любовь Петровна – приятная симпатичная женщина: старушкой не назовешь, несмотря на пенсионный возраст и морщинки – довольно бодрая с карими лучистыми глазами. Сурен Саркисович – невысокий, чуть склонный к полноте человек, лет ему было уже за семьдесят. Ходил с палочкой, старчески шаркая. Смуглолиц, черноглаз, с абсолютно голым плавно-неровным черепом, который покрывал, выходя на улицу в магазин, фиолетовым дешёвым беретом. Небольшой нос без армянской горбинки (у чистокровно русской Любовь Петровны нос с гораздо большим правом мог бы претендовать на армянский – он был с горбинкой, впрочем, которая вовсе не портила женщину, а добавляла ей нечто аристократическое).
Иногда на кухоньке мы с Суреном Саркисовичем пили чаи из стаканов с тяжёлыми металлическими подстаканниками, беседовали. Сурен Саркисович был мостостроитель, в прошлом известный в Москве и в стране: по его проектам были построены Ново-Арбатский мост (за который он и получил эту квартиру, избавившись, наконец, от коммуналки), Северянинский путепровод, автомобильно-троллейбусную эстакаду, соединяющую улицу Остоженку и Комсомольский проспект. Много он потрудился и по стране: Акмолинский мост через Ишим в Казахстане, мост через Днепр в Запорожье, мост через Волгу, соединивший Саратов и Энгельс… – всего списка я не знаю, даже дочь не всё помнит. От него я узнал, что на всех мостах имеются мемориальные доски с именами их проектировщиков и строителей. Даже хотел посетить какую-нибудь, но так и не собрался из-за элементарной лени. Но самой большой гордостью и самой большой печалью Сурена Саркисовича был метромост в Лужниках. Одноарочный, изящный – смело перекинутая белая дуга через Москву реку. Проект, глянувшийся более других тогдашнему главе государства, Никите Хрущёву… Я ездил по нему довольно часто. А уже начинали говорить, что мост не выдерживает нагрузок и начинает трескаться, постепенно разрушаться. «Ах, – вдыхал сокрушённо Сурен Саркисович, – соли не доложили в бетон!». Так из-за несоблюдения технологии, что, увы, у нас не редкость, мост пришлось на время закрывать, укреплять дополнительными опорами, достраивать, перестраивать, впрочем уже после ухода в мир иной его создателя.
Родился Сурен Саркисович в 1901 году в армянском селе Нор-Баязет. Гораздо позже я прочёл замечательную книгу Пикуля «Баязет». В ней описывалась героическая оборона русскими войсками города и резня местных армян за то, что они сочувствовали русским. И хотя город остался в русских пределах до революции, видимо, часть уцелевших после резни жителей решили переселиться в места подальше от турок и жутких напоминаний, основав на берегу чистого, как Божья слеза высокогорного озера Севан подальше и повыше от всех бед земных свой новый (нор) Баязет. Занимались, в основном, сельским хозяйством и Сурен Саркисович вспоминал, как хотелось по молодости спать, когда с первыми лучами солнца приходилось выезжать на лошади в поля на сенокос и другие работы, как никогда в жизни.
Костистый светло-шоколадный череп без бороды и усов… он невольно напоминал турка до тех пор, пока не приподнимались обычно полуприкрытые морщинистые веки, открывая тёмные глубиною в тысячелетия милосердные армянские глаза, которые ни с какими другими не спутаешь.
– Когда турки были недалеко, наши старики решили защищаться. Где-то нашли две старые пушки и поставили их на площади – усмехнулся Сурен Саркисович. Но турки в тот раз прошли стороной, ниже, сжигая другие деревни и убивая людей.
Была у них дочка Наташа, на вид лет 30-ти (а на самом деле сорок), музыкальный преподаватель. Она тоже время от времени приезжала к ним ненадолго. Симпатичная, какими обычно бывают метисы и метиски, очень похожая на Любовь Петровну, но в каком-то восточном варианте. муж талантливый физик на каких-то испытаниях загадочно погиб. Его в семье Мэйтарчан все Ванечкой звали и вспоминали с ласковой грустью – это от него большая часть библиотеки осталась – к моему восторгу оказалась, даже, с запрещённым тогда Шопенгауэром (впрочем, он у меня не пошёл). Зато помнятся чудесные биографии академика Тарле о наполеоновских министрах Фуше и Талейране. Нередко книгу можно было увидеть и в руке Сурена Саркисовича и тайное изумление молодости чуть шевелилось на самом непросветлённом днище душевном: «Неужто в таком возрасте может ещё интересовать что-то такое далёкое?».
Хорошо помню один вечер. За окном было темно и шумел дождь. Мы сидели, как бывало, с Суреном Саркисовичем на кухне и пили чай из стаканов с тяжёлыми железными подстаканниками. Он немного дольше обычного помешивал сахар в чае и, наконец, неуверенно произнёс:
– Я слышал, ты уже решил жениться?..
– Да, я решил, – немедленно ответил я, стараясь избегать тёмного милосердного взгляда. И чтобы отрезать болезненные для меня дальнейшие обсуждения (я давно уже сам жалел о произнесенном сгоряча обещании) добавил, как гвоздь последний в крышку гроба вогнал:
– И потом… и потом я уже дал слово!
– Слово… – Мэйтарчан помедлил, будто что-то вспоминая, – Ты знаешь, а я тебя понимаю… Хотя было по другому…
– ?
– Мне было семнадцать лет. Тогда война с турками была – восемнадцатый год, резня армян… К нам в деревню агитаторы приехали, в армию звать. Записалось сорок человек и пошли до станции. Нас вёл офицер. Идти надо было пару часов, и всё это время рядом с нами ехал на телеге мой отец, стоял на ней и уговаривал, убеждал ребят вернуться.
Я представил себе тогда и часто представлял потом дорогу вдоль лазурного Севана, вереницу ребят и движущуюся рядом с ними телегу, на которой стоял старик, уважаемый староста деревни Нор-Баязет и говорил, вещал, бил в сердца, призывая молодых ребят вернуться домой. Упросить и умолить остаться всегда тихого и послушного сына ни ему, ни его жене не удалось. Тогда он решил действовать в обход. Отцу представилось, что если разагитировать весь отряд, то и сын вернётся, ведь сын не позволяет себе этого наверняка лишь от стыда перед другими… А знал он каждого из колонны, поимённо, знал их семьи – кто оставил стариков родителей, кто малолетних братьев или сестёр, кто невесту. Он знал, куда и как ударить больнее по каждому. Он обращался и ко всем, и к каждому в отдельности, Бил на жалость, говоря, что их уход обрекает любимых близких на тоску, непосильный труд, болезни и голод (деревне и так не хватает рабочих рук!), лукаво убеждал, что их смерть, желторотых и необученных, никому не принесёт пользы, а только убьёт их близких. Упрекал их в безжалостности и глупости. Наверное, это была самая красноречивая и образная речь в его жизни. И достаточно было одному самому слабому и бесстыдному присесть, например, сославшись, что натёр ногу, пообещав, что нагонит отряд «потом» (но никто не сомневался, что это хитрость и он вернётся в деревню), зато каждый подумал: «А чем его кровь слаще моей?». В такие моменты внутренней борьбы, страха перед неизвестностью, достаточно пустяка, чтобы весы перевесили в сторону старого, привычного, и с этого начался полный развал колонны.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: