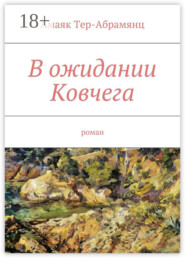По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я – тринадцатый!..
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наконец, сквозь чехарду в эфире раздался еле слышный женский голос:
– Тринадцатый, я Закат, слышу вас нормально… В ваш район только что поступил еще одни вызов, как слышите? Прием…
В диспетчерской сегодня дежурила Валечка, маленькая миловидная блондинка и Валентин подумал, насколько они разные по характеру с Ниночкой. Валя была необыкновенно мягким и добрым человеком, хотя ее семья была не более благополучна, чем у Ниночки. Вот и пойми отчего люди такие разные: скорей всего ни на что в жизни нет однозначного ответа, той простоты, на которую так часто жаждет расчленить ее человек.
– Слышу нормально, диктуйте, прием… – он достал карандаш и, подвинул край газеты, лежащей на теплом двигателе.
– Рощинская тридцать три, – снова послышалось в рации, – на улице в самом конце умирает человек, лежит прямо на дороге, как поняли, прием…
– Вас понял, сейчас выезжаем, – ответил врач и положил трубку.
– Рощинская 33, говорят умирает на дороге, – обернулся к шоферу, тон был полувопросительный.
Не говоря ни слова, водитель завел двигатель. Машина рванулась и помчалась по пустынной улице.
Они подъехали к концу Рощинской. Дом 33 был последним – частный одноэтажный, окруженный глухим забором, с погашенными окнами – за ним было поле, дальше темнел лес, а слева от дороги – стена соснового бора. Никто их не встречал.
– Ложный вызов, – резюмировал водитель.
– А может, уже проезжала какая-нибудь попутка и захватила в больницу, – предположил Романцев.
– Пьяный небось, вот и все! – буркнул недовольно Ваня.
– А, может быть, тут и не нас надо было вызывать, а милицию! – вдруг неожиданно понизив голос предположила Ниночка.
Водитель хмыкнул.
– Ну, что, поехали?…
– Ой! – воскликнула вдруг испуганно Ниночка, показывая рукой в сторону бора – там кто-то, кажется, лежит, может он прошел и там упал?
– Ну-ка, посвети искателем, – тронул Романцев водителя.
Луч света медленно заскользил по блестящим от сырости колоннам сосен и серой паутине кустарника.
– Да, ничего там не видно, одни кусты, – сказал Ваня.
– Ну-ка дай-ка я прогуляюсь, – Романцев открыл дверь, ему хотелось размять затекшие ноги. – А ты посвети мне.
Он вошел в лес, влажные лапы кустарника мягко проскальзывали по его выставленным перед глазами рукам. Почва покрытая иглами бесшумно пружинила под ногами. Пройдя шагов пятнадцать вглубь, он остановился. Машины отсюда уже не было видно, только какие-то полосы света между стволами, как отблеск далекого костра. Казалось, что он очень далеко отошел от дороги. Впереди такая сплошная серая, насыщенная тьма, что мнилось, ее можно было потрогать. Он вытянул руку вперед и не увидел собственных пальцев. Постоял так минул пять, глубоко с наслаждением вдыхая влажный хвойный мрак, приятный после пропахшей бензином кабины. В вышине шумели невидимые кроны сосен. Весь остальной мир вдруг показался отсюда таким далеким, даже оставленная машина с шофером и фельдшером, как будто перестала иметь к нему отношение, как будто там ждали не его, а какого-то другого человека.«А что если не вернуться?» – мелькнула дикая ребяческая мысль. Он вдруг почувствовал эту бархатную непроницаемую тьму своей сущностью. Она вливалась в пальцы, плечи, сердце… Он был сейчас ее глазами и ушами, ее обонянием. У него не было имени, легкое мускульное напряжение охватило все тело, движения стали мягкими, ловкими и гибкими. И что там за свет за стволами было непонятно. Кто там, враги или друзья? Их надо выследить тихо, бесшумно, крадучись…
Ниночка вдруг забеспокоилась, открыла дверь, вглядывасясь в темноту бора. Доктора все не было. На миг в световом пятне искателя вдруг возникла какая-то большущая собака с опущенным хвостом и, оскалившись на свет, шарахнулась в подлесок.
– Валентин Александрович, Валентин Александрович! – позвала Ниночка, холодея, – А-у-у!…
Мы поём
(быль)
Было около восьми утра, и доктор Спиркин, молодой человек лет тридцати, как всегда радовался, что дежурство подходит к концу. «РАФ», на котором он возвращался с вызова, вкатил на территорию станции скорой помощи и остановился. Спиркин соскочил с подножки машины и прошел в диспетчерскую. Судя по заполненному фишками табло, почти все бригады тоже возвратились с вызовов. Сдав ящик с медикаментами, Спиркин направился во врачебную комнату.
В этот час здесь, как всегда, стояло веселое возбуждение. Одни доктора сворачивали одеяла на топчанах и собирали сумки, другие тут же располагались. Перебрасывались новостями, шутили. Новая смена появлялась свежая, умытая, выбритая, принося бодрящие запахи пудры и одеколона, закончившие вахту предвкушали близкий заслуженный отдых, снисходительно посматривали на прибывших, чувствуя себя еще на одно дежурство мудрее, качали головами, повторяя многозначительно и загадочно: «Ну и ночка была!»
Однако сегодня во всем этом возбуждении чувствовалось что-то тревожное.
– Слышал, что директриса наша учудила? – спросил встретившийся в дверях Спиркину доктор Лисниченко – Репетиция собирается.
– Какая еще репетиция, когда? – не понял сразу Спиркин
– Да хора нашего скоропомощного. Никто же ходить на него не хочет, так она репетицию решила на пересменке устроить, чтобы народу заловить побольше.
– Да вы что, с ума спятили, восемь утра! У меня рабочий день закончился, – взорвался Спиркин, неожиданно почувствовав, как хорошее настроение дало трещину.
– Это ты ей объясни, – сказал Лисниченко, угрюмо усмехаясь, – за художественную самодеятельность самые большие очки дают, соцсоревнование ведь между коллективами, а скоро подведение итогов. Надо удержать переходящее знамя.
– Какая еще репетиция? – закричала доктор Трещеткина, худая с неукротимо горящими глазами женщина. – Мне ребенка надо кашей кормить, мужа отправлять на смену, в цех, да имела я в виду… я – пролетарий медицины!
«Надо бежать, пока не поздно», – пронеслось в сознании Спиркина, и он бросился к топчану, на котором стоял его портфель. Он помнил, что Анфиса Петровна, начальница отделения скорой помощи, не раз игриво заводила с ним разговор об участии в хоре, а однажды вызвала к себе и поставила вопрос ребром.
– Учтите, ведь я вам иду навстречу, когда составляю график дежурств и отпусков, – сказала она ему, и он, кажется, даже почти согласился, чтобы не портить отношений с начальством, надеясь как-нибудь, по ходу дела, открутиться. Однако молодой доктор опоздал.
В комнату один за одним, с растерянным видом, нехотя, будто кто-то их гнал сзади, входили фельдшера.
– Товарищи, товарищи! – закричала появившаяся в дверях круглолицая директриса, закрыв их своим полным телом. – Никому не расходиться, будем репетировать. Петр Иванович сделал нам такую любезность и уже приехал!
Возмущенный рев был ей ответом.
«Эх, опоздал! – подумал Спиркин. – Теперь не выпустит, не драться же с ней!»
Однако директриса не растерялась (подобную разъяснительную беседу она провела с большинством) и, подняв пухлые руки, махнула ими, как дирижер.
– Товарищи, не волноваться, вы должны понять.
– У меня ребенок голодный дома, – крикнула Трещеткина.
– Мы устали, – жалобно протянула доктор Вернигора, симпатичная хрупкая девушка, работающая первый год после института.
– Что ж, доктора Трещеткину мы отпустим раньше всех, если у коллектива не будет возражений, а от вас Вернигоpa, мне просто удивительно слышать такое, да в ваши годы я дежурила по два дежурства подряд и потом еще на свидание бегала!
Откуда-то из-под мышки директрисы вынырнул Петр Иванович, который был на голову ниже ее, худрук районного Дома культуры. Баяном он уже заранее вооружился в директорской комнате. Несмотря на почти сорокалетний возраст, лицо у него было как у ребенка – безвольное, гладкое, без единой морщинки, только красное, будто из печки, глаза – светло-голубые, выпитые. Не теряя времени, обходя докторов, он прошел вперед, сел посреди комнаты на стул и, поправив ремень на плече, круто развернулся к двери. Операция оцепления закончилась.
В это время за спиной Анфисы Петровны показалось полное лицо в роговых очках. Она оглянулась.
– А-а, доктор Веточкин, – радостно запела директриса, как будто случилось какое-то необыкновенное событие, – а мы вас ждем, пожалуйста, проходите! – и вежливо уступила дорогу.
– Меня? – удивился Веточкин, пожилой упитанный холостяк, он уже давно забыл, где бы его могли ждать, кроме вызова, и лихорадочно стал вспоминать, не мог ли пропустить по рассеянности собственный день рождения. В руках доктор нес свой обычный портфель, не менее десяти килограммов весом, с запасом еды на сутки.
– Да, вас, именно вас, – рассмеялась начальница чистым звонким смехом, удивительным для такого грузного тела.
– Тринадцатый, я Закат, слышу вас нормально… В ваш район только что поступил еще одни вызов, как слышите? Прием…
В диспетчерской сегодня дежурила Валечка, маленькая миловидная блондинка и Валентин подумал, насколько они разные по характеру с Ниночкой. Валя была необыкновенно мягким и добрым человеком, хотя ее семья была не более благополучна, чем у Ниночки. Вот и пойми отчего люди такие разные: скорей всего ни на что в жизни нет однозначного ответа, той простоты, на которую так часто жаждет расчленить ее человек.
– Слышу нормально, диктуйте, прием… – он достал карандаш и, подвинул край газеты, лежащей на теплом двигателе.
– Рощинская тридцать три, – снова послышалось в рации, – на улице в самом конце умирает человек, лежит прямо на дороге, как поняли, прием…
– Вас понял, сейчас выезжаем, – ответил врач и положил трубку.
– Рощинская 33, говорят умирает на дороге, – обернулся к шоферу, тон был полувопросительный.
Не говоря ни слова, водитель завел двигатель. Машина рванулась и помчалась по пустынной улице.
Они подъехали к концу Рощинской. Дом 33 был последним – частный одноэтажный, окруженный глухим забором, с погашенными окнами – за ним было поле, дальше темнел лес, а слева от дороги – стена соснового бора. Никто их не встречал.
– Ложный вызов, – резюмировал водитель.
– А может, уже проезжала какая-нибудь попутка и захватила в больницу, – предположил Романцев.
– Пьяный небось, вот и все! – буркнул недовольно Ваня.
– А, может быть, тут и не нас надо было вызывать, а милицию! – вдруг неожиданно понизив голос предположила Ниночка.
Водитель хмыкнул.
– Ну, что, поехали?…
– Ой! – воскликнула вдруг испуганно Ниночка, показывая рукой в сторону бора – там кто-то, кажется, лежит, может он прошел и там упал?
– Ну-ка, посвети искателем, – тронул Романцев водителя.
Луч света медленно заскользил по блестящим от сырости колоннам сосен и серой паутине кустарника.
– Да, ничего там не видно, одни кусты, – сказал Ваня.
– Ну-ка дай-ка я прогуляюсь, – Романцев открыл дверь, ему хотелось размять затекшие ноги. – А ты посвети мне.
Он вошел в лес, влажные лапы кустарника мягко проскальзывали по его выставленным перед глазами рукам. Почва покрытая иглами бесшумно пружинила под ногами. Пройдя шагов пятнадцать вглубь, он остановился. Машины отсюда уже не было видно, только какие-то полосы света между стволами, как отблеск далекого костра. Казалось, что он очень далеко отошел от дороги. Впереди такая сплошная серая, насыщенная тьма, что мнилось, ее можно было потрогать. Он вытянул руку вперед и не увидел собственных пальцев. Постоял так минул пять, глубоко с наслаждением вдыхая влажный хвойный мрак, приятный после пропахшей бензином кабины. В вышине шумели невидимые кроны сосен. Весь остальной мир вдруг показался отсюда таким далеким, даже оставленная машина с шофером и фельдшером, как будто перестала иметь к нему отношение, как будто там ждали не его, а какого-то другого человека.«А что если не вернуться?» – мелькнула дикая ребяческая мысль. Он вдруг почувствовал эту бархатную непроницаемую тьму своей сущностью. Она вливалась в пальцы, плечи, сердце… Он был сейчас ее глазами и ушами, ее обонянием. У него не было имени, легкое мускульное напряжение охватило все тело, движения стали мягкими, ловкими и гибкими. И что там за свет за стволами было непонятно. Кто там, враги или друзья? Их надо выследить тихо, бесшумно, крадучись…
Ниночка вдруг забеспокоилась, открыла дверь, вглядывасясь в темноту бора. Доктора все не было. На миг в световом пятне искателя вдруг возникла какая-то большущая собака с опущенным хвостом и, оскалившись на свет, шарахнулась в подлесок.
– Валентин Александрович, Валентин Александрович! – позвала Ниночка, холодея, – А-у-у!…
Мы поём
(быль)
Было около восьми утра, и доктор Спиркин, молодой человек лет тридцати, как всегда радовался, что дежурство подходит к концу. «РАФ», на котором он возвращался с вызова, вкатил на территорию станции скорой помощи и остановился. Спиркин соскочил с подножки машины и прошел в диспетчерскую. Судя по заполненному фишками табло, почти все бригады тоже возвратились с вызовов. Сдав ящик с медикаментами, Спиркин направился во врачебную комнату.
В этот час здесь, как всегда, стояло веселое возбуждение. Одни доктора сворачивали одеяла на топчанах и собирали сумки, другие тут же располагались. Перебрасывались новостями, шутили. Новая смена появлялась свежая, умытая, выбритая, принося бодрящие запахи пудры и одеколона, закончившие вахту предвкушали близкий заслуженный отдых, снисходительно посматривали на прибывших, чувствуя себя еще на одно дежурство мудрее, качали головами, повторяя многозначительно и загадочно: «Ну и ночка была!»
Однако сегодня во всем этом возбуждении чувствовалось что-то тревожное.
– Слышал, что директриса наша учудила? – спросил встретившийся в дверях Спиркину доктор Лисниченко – Репетиция собирается.
– Какая еще репетиция, когда? – не понял сразу Спиркин
– Да хора нашего скоропомощного. Никто же ходить на него не хочет, так она репетицию решила на пересменке устроить, чтобы народу заловить побольше.
– Да вы что, с ума спятили, восемь утра! У меня рабочий день закончился, – взорвался Спиркин, неожиданно почувствовав, как хорошее настроение дало трещину.
– Это ты ей объясни, – сказал Лисниченко, угрюмо усмехаясь, – за художественную самодеятельность самые большие очки дают, соцсоревнование ведь между коллективами, а скоро подведение итогов. Надо удержать переходящее знамя.
– Какая еще репетиция? – закричала доктор Трещеткина, худая с неукротимо горящими глазами женщина. – Мне ребенка надо кашей кормить, мужа отправлять на смену, в цех, да имела я в виду… я – пролетарий медицины!
«Надо бежать, пока не поздно», – пронеслось в сознании Спиркина, и он бросился к топчану, на котором стоял его портфель. Он помнил, что Анфиса Петровна, начальница отделения скорой помощи, не раз игриво заводила с ним разговор об участии в хоре, а однажды вызвала к себе и поставила вопрос ребром.
– Учтите, ведь я вам иду навстречу, когда составляю график дежурств и отпусков, – сказала она ему, и он, кажется, даже почти согласился, чтобы не портить отношений с начальством, надеясь как-нибудь, по ходу дела, открутиться. Однако молодой доктор опоздал.
В комнату один за одним, с растерянным видом, нехотя, будто кто-то их гнал сзади, входили фельдшера.
– Товарищи, товарищи! – закричала появившаяся в дверях круглолицая директриса, закрыв их своим полным телом. – Никому не расходиться, будем репетировать. Петр Иванович сделал нам такую любезность и уже приехал!
Возмущенный рев был ей ответом.
«Эх, опоздал! – подумал Спиркин. – Теперь не выпустит, не драться же с ней!»
Однако директриса не растерялась (подобную разъяснительную беседу она провела с большинством) и, подняв пухлые руки, махнула ими, как дирижер.
– Товарищи, не волноваться, вы должны понять.
– У меня ребенок голодный дома, – крикнула Трещеткина.
– Мы устали, – жалобно протянула доктор Вернигора, симпатичная хрупкая девушка, работающая первый год после института.
– Что ж, доктора Трещеткину мы отпустим раньше всех, если у коллектива не будет возражений, а от вас Вернигоpa, мне просто удивительно слышать такое, да в ваши годы я дежурила по два дежурства подряд и потом еще на свидание бегала!
Откуда-то из-под мышки директрисы вынырнул Петр Иванович, который был на голову ниже ее, худрук районного Дома культуры. Баяном он уже заранее вооружился в директорской комнате. Несмотря на почти сорокалетний возраст, лицо у него было как у ребенка – безвольное, гладкое, без единой морщинки, только красное, будто из печки, глаза – светло-голубые, выпитые. Не теряя времени, обходя докторов, он прошел вперед, сел посреди комнаты на стул и, поправив ремень на плече, круто развернулся к двери. Операция оцепления закончилась.
В это время за спиной Анфисы Петровны показалось полное лицо в роговых очках. Она оглянулась.
– А-а, доктор Веточкин, – радостно запела директриса, как будто случилось какое-то необыкновенное событие, – а мы вас ждем, пожалуйста, проходите! – и вежливо уступила дорогу.
– Меня? – удивился Веточкин, пожилой упитанный холостяк, он уже давно забыл, где бы его могли ждать, кроме вызова, и лихорадочно стал вспоминать, не мог ли пропустить по рассеянности собственный день рождения. В руках доктор нес свой обычный портфель, не менее десяти килограммов весом, с запасом еды на сутки.
– Да, вас, именно вас, – рассмеялась начальница чистым звонким смехом, удивительным для такого грузного тела.