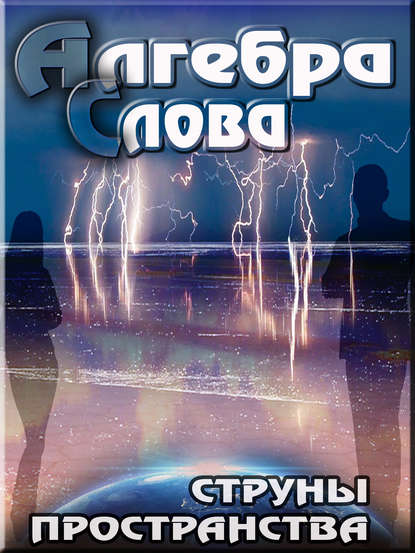По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Струны пространства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты говори, да не заговаривайся. Чего удумала, чужое дитя от крови отрывать? Мать вернется, и все наладится, – уверенно ответила старуха.
– О-о-о, – простонала тетка Зина в ответ. – Отец-то его во всех пивных уже отметился. Домой-то он как приползает? Вот погожу немного, и пойду, куда следует.
– Мать образумится, – стояла на своем старуха. – Все-таки дите будет, не даст гулять.
– Да кого они родить могут? – брезгливо поджала губы тетка Зина. – Дурака только.
Тетка Зина, видя, как жадно я набросился на хлеб, достала из авоськи оставшуюся половину булки.
Я толком не понял, о чем они говорят, но меня начали душить слезы. Мне пришлось ретироваться в подъезд, потому что я не хотел, чтобы подходящие знакомые дворовые мальчишки увидели, как я разревусь окончательно. Так я и не успел сказать соседкам, что ищу бабушку, а не мать. К тому же меня обидели слова про дурака, которые я отнес к себе.
…Бабушка, до недавнего времени преподававшая физику в школе, наоборот восхищалась мною.
Мы делили с нею одну комнату на двоих. Справа от окна стоял письменный стол. Слева – бабушкина кровать. За нею – трехстворчатый платяной шкаф. И у противоположной стены от окна – моя кровать. Табуретка и стул… – вот и все убранство.
Я любил книги, полные таинственных закорючек и знаков. Когда бабушка садилась вечером проверять тетради, никакими силами невозможно было уложить меня в постель. Я подтаскивал табуретку к письменному столу и смотрел на мелкие клеточки, в которых те самые закорючки из книг выстраивались в длинные неровные ряды. Естественно, я совершенно не понимал, что загнутая палочка в тетрадке каким-то волшебным образом связана с розеткой над моею кроватью, но я довольно быстро научился находить лишние закорючки в строчках ученических тетрадей.
– Зрительная память хорошая, – улыбалась бабушка. – Вот начнешь понимать, тут и откроется тебе удивительный мир, который еще не познан до конца.
– Я понимаю, – многозначительно кивал я и тыкал карандашом в тетрадь. – Подкова – напряжение, буква «а» – работа, палка – ток.
– Сила тока, – поправляла меня бабушка.
– Сила. Еще какая сила, – повторял я, с опаской оглядываясь на розетку. Однажды я в темноте пытался воткнуть вилку настольной лампы и попал в розетку пальцами. Передернуло меня тогда страшно, по всему телу прошла волна. Зато я понял, что это за сила.
Я все ждал того момента, когда мир распахнется, откроется, как обещала бабушка. Но он никак не расширялся, и по-прежнему состоял из закорючек в книгах, двух чашек остывшего чая, вазочки с твердыми пряниками, которые не откусишь, и настольной лампы, ярко освещающей половину письменного стола. И, конечно, бабушки, которая, к моему разочарованию, быстро гасила свет и переносила меня в кровать, приставляя рядом табуретку, чтобы я не упал.
Настольная лампа потом частенько зажигалась вновь, но я, собираясь слезть с кровати, нечаянно засыпал против своей воли.
Утром бабушка отводила меня в детский сад, а вечером забирала. В выходные мы с нею очень много гуляли. Чуть ли не целый день. Бабушка брала с собой термос с горячим чаем и заворачивала бутерброды, картошку в мундире, огурцы или помидоры. Мне очень нравился черный хлеб с подсолнечным маслом и солью, в который бабушка втыкала крупинки чеснока. Получалось похоже на любительскую колбасу. Только загорелую.
Летом гулять мне нравилось, а вот зимой я замерзал и просился домой. Но бабушка умело заговаривала меня и вела в кафетерий, где покупала вкусные кексы. Бывало, что мы просто катались на трамвае или в теплом автобусе, бабушка рассказывала истории или сказки, а я, прислонившись к ее руке, думал, почему мы так долго едем. Часто ходили мы с ней и в цирк, и в театр, и на выставки, иногда на одно и то же по нескольку раз, но домой неизменно возвращались только к позднему вечеру в нашу маленькую и уютную комнату…
Эмиль
С Эмилем, моим коллегой, мы запускали очередную экспериментальную установку для генерирования переменного тока промышленной частоты. Пятая попытка могла опять обернуться неудачей.
…Последнее время мы вечно трудились над безумными идеями Эмиля. В этом ему не было равных в нашем научно-исследовательском институте. На десяток его провалов одна-две идеи каким-то чудом срабатывали. В итоге нас года три или четыре назад отстранили от основной работы, позволив заниматься тем, что с завидным постоянством приходило Эмилю в голову. Я, в отличии от него, идеями не блистал, горячим энтузиазмом к работе, впрочем, тоже. Да, что-то меня могло заинтересовывать, а что-то я выполнял механически. Эмилю я был нужен исключительно из-за своей феноменальной памяти. Вся информация из книг, тысячу раз разглядываемых мною в детстве на письменном столе бабушки, изученная в школе, пройденная в институте фантастическим образом хранилась в моей голове. Я досконально мог воспроизвести любую таблицу, любые коэффициенты, любые формулы и доказательства.
Как и пророчила бабушка, память оказалась лишь зрительной. Но это ни мне, ни делу не мешало. Я за секунду мог найти ошибку или неточность в обоснованиях Эмиля, и продолжить правильный ряд «детских закорючек». Для Эмиля я был ходячей и мгновенной энциклопедией…
Было за полночь, когда мы, уставшие после второй бессонной ночи, снова и снова записывали показания и производили расчеты. Эмиль был веселым молодым человеком и заражал своей энергией, поэтому я на такие мелочи, как сверхурочная работа, порою без выходных, внимания не обращал. С Эмилем было комфортно и в кафе, и в лаборатории. С ним время летело интересно и незаметно.
– С этим могли бы и лаборанты справиться, – заметил я, записывая очередные отклонения и потирая побаливающие от напряжения виски.
– Ты понимаешь, какая штука, – зашептал Эмиль, капилляры в его глазах от утомления лопнули, и белки выглядели болезненно красными. – Впрочем, я позже скажу.
– Ну что еще? – я взглянул на него. – Снова неудача? Но ты, как истинный борец, пойдешь до конца неверного пути, чтобы удостовериться, что никакого шанса нет?
– Параллель, – отозвался он.
– Мне б руки с ногами параллельно сложить и уснуть, – обреченно ответил я.
– В конце неверного пути может найтись такая точка, которая, при правильном рассмотрении, даст направление на правильную параллель.
– Эй, точечник! – не выдержал я. – Диаграмму давай и хватит. Высчитываем среднюю, признаем, что это самая неудачная параллель из предыдущих четырех, и идем домой. В следующие трое суток меня не будить. Вырву телефонный провод, приварю дверь, а в уши натолкаю каменной ваты!
– Угу, – неожиданно покладисто ответил Эмиль. – Среднюю я вывел уже. Амплитуда колебаний постоянна, и можно сворачиваться.
– Какого черта тогда мы тут высиживали?! – взорвался я.
– Яйца высиживают, а не чертей, – Эмиль перенес последние показания в журнал, опустил несколько рычагов и отключил аппараты от сети.
– Связался я с тобой себе на погибель, – я собрал журналы, бумаги, чертежи и понес их в шкаф, пока Эмиль продолжал недвижимо стоять около аппаратов. Я уже превосходно знал, что в такие моменты, когда он замирает подобным образом, его мозг отключается от реальности, впуская в себя новую идею. И не успеет наступить рассвет, как у меня затрезвонит телефон, а в трубке захлебнется от восторга голос Эмиля.
– Здорово, полуночники! – заглянул к нам пожилой полноватый мужчина. Волосы с проседью зачесаны назад, круглое лицо с неглубокими морщинами. Академик преподавал биологию и химию на моей кафедре, когда я учился в институте. Сейчас же мы работали по соседству. Половина здания была отдана под его ведомство психиатрии, биологии и вирусологии, половина – нам, физикам. Нас разделяла только лестница центрального входа. Налево к ним, направо – к нам. На очередном субботнике молодые лаборанты перепили спирта, которого в левой половине водилось достаточно и чего-то не поделили, думаю, того же спирта, с правыми. В итоге стены центрального холла и коридоров здания двух весьма серьезных научных исследовательских институтов оказались окрашены в разные цвета: желтым – слева, и фиолетовым – справа. Ступени лестницы также постигла участь разделения на два цвета. Лаборанты лишились зарплаты за месяц со строгим выговором, но стены никто, несмотря на крики руководства, не собирался перекрашивать. Мало того, на стенах нередко появлялись нехорошие слова или угрожающие знаки, написанные, соответственно, либо фиолетовой краской на желтом фоне, либо желтой – на фиолетовом.
Эмиль не откликнулся, стоя у приборов.
– Привет, – кивнул я. Хотя академик и вошел сто лет назад в пору глубоко солидного возраста, но настолько он был чудаковатый и свойский, что к нему практически все, еще со студенческой скамьи обращались на «ты». – А сам-то?
– Тоже задержался, – подтвердил академик, приглаживая назад седые волосы. – Думал, уходить или чаю крепкого выпить и остаться еще на пару часов. Увидев у вас свет, решил наведаться.
– Ты лучше изобрел бы чего ото сна? Таблетку или микстуру? – попросил я. – Это вы, пламенные энтузиасты, готовы ни спать, ни есть, а мне летальный исход при таком режиме обеспечен.
Эмиль наконец повернулся. Волосы у него были темные, густые, короткие, но чуть вьющиеся. Глаза светло-карие, а когда он задумывался, то они желтели, точно в них кто-то огонь зажигал. И сейчас стало отчетливо видно, что желтый оттенок проник в радужную оболочку.
«Все. Загорелся чем-то», – констатировал я и мысленно поблагодарил зашедшего академика. Эмиль при чужих не любил распространяться, иначе бы он, не сходя с места, начал бы изложение своей задумки, которое, естественно, затянулось бы до утра.
– Ты к нам не с пустыми руками? – весело спросил Эмиль у академика. – К чаю принес что-нибудь?
– Завалялся тут у меня кусочек сахарку, – засмеялся академик, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака металлическую фляжку. Поставил ее на свободный край заваленного чертежами стола. – И перебродил в кармане.
– Тащи посуду, – скомандовал мне Эмиль.
– Да вы что?! – поразился я. – Неужели спать неохота?
– Час ночи всего лишь, – Эмиль сам метнулся к шкафчику. – По стаканчику и домой. Надо отметить завершение эксперимента.
– Поздравляю, поздравляю! – добродушно закивал академик.
Вздохнув, я поплелся к шкафчику, достал краюху хлеба и банку шпрот. Сухой паек у нас с Эмилем имелся часто, поскольку о еде мы могли вспомнить только тогда, когда начинало сводить животы, а еды взять было уже негде.
– Не с чем, – беспечно отреагировал Эмиль, как будто не он убил пять месяцев на этот прототип установки. – У нас неудача.
– Что ж, бывает, бывает. Опыт прибывает, – не расстроился и академик.
– А деньги убывают, – продолжил я, отодвигая чертежи и расстилая газету на столе. – Четыре зарплаты угрохали на мелочь, которую институт достать не может. У барыг добывали заграничные приборы, так и в тюрьму недолго попасть. И пять месяцев жизни пролетело.