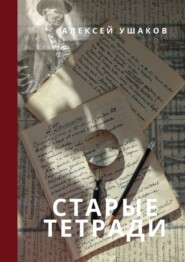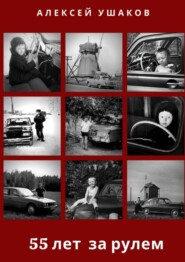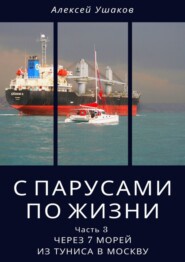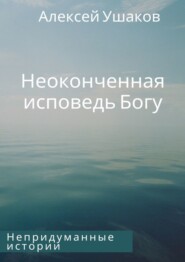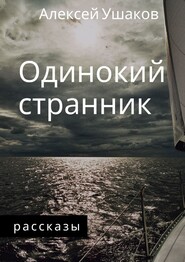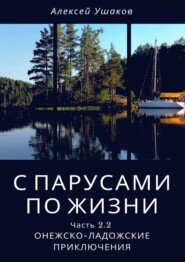По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воспоминания отца. 29 лет в Советской Арми
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В стране было такое время, что слова ОГПУ, НКВД многих сразу приводили в трепет и ужас. И вот дали нам Наряд на работу по замене электропроводки в кабинетах здания ОГПУ. Наставник нахмурился, посерьёзнел, скомкал пачку папирос и сунул её в карман.
– Ну, Борис, не подведи, сам понимаешь, если что, нас…
Что, если что, я тогда не понимал.
Явились мы с Наставником к начальнику ОГПУ\НКВД, представились, показали Наряд, нам показали, что и где надо сделать, и мы приступили к работе. Меня Мастер послал заменить электропатрон в кабинете самого Начальника ОГПУ! Я начал нервничать, сам не знаю почему. Дежурный офицер, сопровождавший меня, доложил начальнику и тот на время моей работы вышел из своего кабинета, оставив меня одного. Так как лампа свисала прямо над столом начальника и была довольно высоко, (даже в НКВД не было светильников – с потолка свисал провод с патроном и в нем лампа, всё – неприятное ощущение это вызывало) то я поставил на письменный стол табуретку и влез на нее, думая, что возможно придется просто поменять лампу, но лампа была цела. Начал разбирать патрон, а выключить, что на стене при входе в кабинет, выключатель не подумал, и меня ударило током. От неожиданности я выронил из рук плоскогубцы, они упали на стекло, закрывавшее столешницу, и оно разлетелось на мелкие осколки. Ноги мои подкосились, и я с грохотом полетел на пол.
Тут же в кабинет вбежал дежурный и хозяин кабинета – начальник ОГПУ.
Он увидел разбитое стекло и начал «нести» меня на чем свет стоит. Потом сказал дежурному:
– Отведи этого паршивца в камеру, пусть посидит там в темноте с мышами и подумает, как надо работать в кабинете начальника!
Отвели меня в камеру. Там было темно, сыро, дурно пахло. Тогда я впервые задумался о своей судьбе. Я понял, что не следует ждать подсказок, а надо до всего додумываться самому. Примерно через пол часа меня вывели из камеры, и доставили в кабинет начальника, который сказал:
– Наставник за тебя поручился, доделывай свою работу, и запомни, что в другой раз можешь стать «вредителем», ставя табурет на стекло, роняя пассатижи и падая на пол, мозгами шевели!
Вот такие были у меня университеты в 15 лет.
От Редактора.
В свои пятнадцать лет я учился в девятом классе школы, ходил в различные кружки, занимался спортом и жил в семье в хороших условиях и мечтал стать, или физиком, или хирургом. Родители стремились не просто дать нам хорошее образование, но и приучить нас (меня, брата и сестру) к труду. Например, меня Отец постоянно брал в гараж и грузил разными заданиями, учил работать с инструментом, рассказывал, как устроен автомобиль (у нас тогда была ВОЛГА ГАЗ 21) и просил помогать ему в ремонте, подавая различный инструмент, выполняя отдельные работы. Отец был очень строг, часто кричал, а иногда и отвешивал мне затрещины, что доводило меня до слез и обид на него. Со временем я понял, что Отец, хоть и «зверствует», но был прав, донося до меня такие понятия, как хорошо и плохо, добросовестность, справедливость, совесть, честь, квалификация. А ещё, он учил меня всё называть своими именами, как есть, а не искать мягкие формулировки. Пошло ли мне это на пользу по жизни, думаю да, но сделало меня жестким и грубоватым. И Мама, и Бабушка часто просили что-то делать по дому, ходить в магазин, и конечно, на субботники со всеми жильцами дома. Больше всего я любил помогать раскатывать тесто, а потом есть готовые пирожки. Как правило, дети многое перенимают от родителей. И я перенимал. Однозначно могу сказать, что детей надо не только учить, но и правильно воспитывать, чаще своим примером, чего в нынешнее время не очень заметно. От воспитания все устранились. Раньше в основе лежала идеология и коллективизм и приоритет общественного, и я это застал, а сегодня индивидуализм/эгоизм и приоритет частного, многие понятия размыты – нет общей цели, как во времена СССР, каждый сам за себя и: «хочу, я считаю, и мне нужно» на первом месте при том, что руками почти никто ничего и не может сделать, да и в головах такое месиво при отсутствии хороших знаний. Уровень школ упал. Каждый стал считать себя личностью с кучей амбиций требований к окружающим, не понимая, что до «личности» надо тернистый путь пройти. Смартфон стал главным инструментом и «генератором» мыслей, а не мозги. Мы из школы выходили, имея по 2—3 рабочих специальности, устойчивое мировоззрение, все шли в инженеры, врачи и ученые что-то создавать, а сейчас дефицит таких кадров – все менеджеры по оптимизации без какой-либо ответственности за результат – разрушать не строить, главное «поиметь» больше денег, которые стали целью, мерилом успешности. А мы стремились что-то сделать. Не понимаю, как сейчас можно эффективно работать, не имея общей Цели, только если корпоративная, или на свой карман. Вот и не видно последние 30 лет развития в стране, только потребительство. И ещё, внедряемая сейчас везде толерантность в отношениях разрушает и личность, и коллектив, общество, которые становятся равнодушным, беззубым, пассивным, терпимым ко всему – толерантным и слабым большинством, подчиненным агрессивному либеральному меньшинству, для которого интересы общества ничего не значат – люди для них просто ресурс для использования. Наши отцы и мы боролись за правду и справедливость, в своё время, сейчас эпоха тотальной лжи и фальсификации, многие ценности прошлого уходят. Если раньше шла война за территории и сырьё, за власть, то теперь за Души людей, за духовную свободу, сознанием людей манипулируют вне их воли.
НАДО УЧИТЬСЯ
Поработал я учеником электромонтера год и понял, что мне необходимо учиться! Профильных знаний не хватало и продвинуться без образования было нельзя. Начал готовиться к вступительным экзаменам в техникум, на что у меня было три месяца. (Со временем понял, что учиться, совершенствоваться нужно всю жизнь, больше читать, развивать кругозор – нет лишних, не нужных знаний! Естественные науки надо знать всем, как и философию, логику!)
В техникуме, в то время, работал мой отец в химической лаборатории. Но у отца были не очень хорошие взаимоотношения с Директором Техникума, что чуть не сказалось на моём поступлении. На вступительных экзаменах, на устных ответах, я где-то ошибся пару раз, и тогда Директор Техникума сказал: «А надо ли Ушакова принимать с такими знаниями?». Моему расстройству и обиде не было предела и это состояние очевидно отразилось на моем лице, и тогда присутствующие члены Приемной Комиссии, листая мои бумаги и характеристики, заметили: «Ушаков все же работал год учеником Электромонтера! Прошёл хорошую практику. Имеет хорошие характеристики. Его следует принять». Вопрос решали голосованием и меня приняли. В 1933-м году я стал студентом техникума, где и проучился почти четыре года! Нельзя сказать, что для меня это было просто и легко. Жизнь вокруг бурлила, всё быстро менялось, у всех был эмоциональный подъем. Каждый стремился во всем участвовать и ничего не пропускать. Круговерть жизненных событий всех засасывала в воронку новой жизни!
По совету отца вел дневник с детства. Это очень многое даёт. Приучает думать, анализировать и формулировать мысли, видеть главное, что в итоге структурирует твою жизнь, помогать понять смысл событий. Жалею, что не вел дневники всю жизнь. Были времена, когда вести дневник было опасно. Сохранились некоторые записи.
В Техникум я поступил на электротехническое отделение. Занятия проходили с восьми часов утра и до шестнадцати часов вечера ежедневно. Успеваемость моя была средняя – не хватало усидчивости, постоянно хотелось спать и есть. Я всегда старался занять место в аудитории за первым столом, чтобы лучше слушать преподавателя, и лучше видеть, что он пишет и чертит на доске, но не всегда всё сразу понимал, многое просто записывал механически, а дома пытался разобраться, но не всегда получалось, а подсказать было некому.
В техникуме я вступил в пионерскую организацию! Часто Совет Пионерской Дружины давал задания, и каждый пионер обязан был их выполнять. Сейчас уже и не помню, что мне приходилось делать, кроме листовок и стенгазет. Но мы работали, и пионерия была школой общественного и идеологического воспитания, что делалось в СССР настойчиво, системно, продуманно и касалось всех сфер жизни, а главное, давало ощутимый результат для общества в целом – из масс делали общественный монолит.
У нас велась начальная военная подготовка, в основном теоретическая. Военрук иногда устраивал для «старшеклассников» ночные тревоги. Связные ходили по домам и вызывали студентов в техникум. Там военрук проводил с нами беседы на военные, политические, идеологические и спортивные темы. Мы изучали тактику боя в обороне и в атаке. Затем мы выходили в поле и проводили имитацию военных действий с имитацией стрельбы с помощью деревянных трещоток. Было очень интересно (мы же детьми были), и мы старались как-то отличиться. Военрук учил все делать старательно, вдумчиво, тщательно и ответственно, помогать друг другу во всем, говоря, что все вместе мы сила, а по одиночке «каждого соплей перешибить можно». Думаю, на фонте это многим помогло.
На первом и втором курсах техникума мы проходили производственную практику в слесарно-токарных мастерских, при которых был и кузнечный цех. Нас учили многому, давали специальность. В кузне, например, вначале надо было обрубить зубилом брусок чугуна, или стали, потом обработать его рашпилем и добиться, точно по угольнику, прямых углов между всеми сторонами бруска. Потом напильником брусок доводился, чтобы получить совершенно точно девяносто градусов между всеми сторонами бруска и гладкие поверхности, и нужный размер. Эта операция требовала очень много времени и вырабатывала в ученике терпение и тщательность в работе. Технология обучения и воспитания. Иногда просто опускались руки, когда приходилось шабрить отдельные точки на бруске по десять-пятнадцать минут, помеченные мастером краской.
Потом были работы на токарном, фрезерном и на строгальном станках. Мастер знакомил нас с чертежами, учил их читать, учил пользоваться измерительными приборами: металлической линейкой, штангенциркулем и микрометром. По чертежам мы делали детали, а Мастер потом проверял за нами размеры и заставлял переделывать, если находил ошибки. Тогда я понял, что такое точность измерений, что такое «допуски» и «посадки» при сопряжении деталей. Эта практика мне пригодилась, когда, будучи инженером, я делал чертеж детали, или прибора, и потом заказывал их изготовление на опытном производстве. Мне было проще этим заниматься, зная возможности станков и рабочих, точность измерений.
Самой эмоциональной была работа в кузнечном цехе – в горячем цеху, как говорил мастер. Основной практикой для нас была ковка раскалённого в горниле бруска до нужной формы и размера. Мы поочередно колотили брусок кувалдами и молотками, добиваясь необходимого размера. При этом каждый работал поочередно то молотобойцем, то правильщиком. Раскалённый брусок при этом клещами поворачивали разными сторонами под удары кувалды. Тяжкая работа.
Были и происшествия.
Как-то Мастер начал обрабатывать раскаленную до красна в горне заготовку для металлического молотка, поставив меня молотобойцем. Он поворачивал щипцами на наковальне заготовку, а я должен был бить по ней кувалдой по тому месту, которое показывал мне Мастер своим маленьким молоточком на длинной ручке.
В кузнице стоял сильный шум от горна и раздувающих его мехов, от ударов паровых молотов и работы других кузнецов. Мастер что-то кричал мне, но я его плохо слышал. Я замахивался через плечо кувалдой и бил ею по накалённой заготовке в то место, по которому постукивал мастер своим молоточком. Кувалда была такой тяжелой, что я еле делал замахи. Мастер вроде крикнул: «Крепче!». Я сильно замахнулся кувалдой и ударил ею по заготовке. В это время Мастер крикнул мне: «Легче!», но я не понял и собрал все свои силы и через плечо со всего маха ударил по наковальне в то место, где только что лежала заготовка. Видя мой замах, и поняв, что я не услышал его, Мастер сдернул заготовку с наковальни, и мой молот со всей мочи опустился на пустую наковальню, ручка сломалась у основания, осталась у меня в руках, а молот подскочил под потолок кузницы. Мастер закричал: «Берегись!» и студенты, стоявшие вокруг, начали разбегаться. Я успел отскочить в сторону от падающей кувалды. Кусок красной окалины отскочил от наковальни и попал за ботинок стоявшему рядом студенту! Студент закричал от боли, присутствующие кинулись к нему стаскивать ботинок! Я же почувствовал сильную боль в ладони правой руки. Возле основания среднего пальца.
Мастер мне что-то говорил, но я не реагировал, и он крикнул: ты что оглох? Я кивнул, и Мастер освободил меня от работы в этот день!
Каждое посещение цехов мы потом обсуждали на переменах. Оказалось, что не только я ломал ручки кувалд и молотков. Нам просто не хватало сил. Не даром Мастер говорил нам, чтобы мы ходили в спортивные секции. А ещё, мы просто недоедали. Поесть «от пуза» было мечтой.
А с рукой получилось всё не просто. На другой день после работы в кузнеце я почувствовал усиление боли в ладони! Она распухла. Через день у основания среднего пальца начал назревать нарыв!
Я попросил маму отвезти меня к хирургу! Но она сказала, что еще рано – пусть нарыв созреет. Через два дня ладонь распухла и боль распространилась по всей руке. Тогда мама испугалась и повела меня в больницу к хирургу!
Врач, увидев мою руку покачал головой и сказал:
– Если бы пришли на один день позже, то ваш сын мог бы лишиться правой руки от заражения крови.
Мне сделали операцию и что-то там удалили. Шрам от разреза сохранился на ладони правой руки у меня на всю жизнь!
МОЁ, СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ, ВРЕМЯ
Помимо учебных занятий в техникуме проходила и моя личная жизнь, как подростка, старающегося как-то полнее и разнообразнее проводить свои молодые годы с друзьями и товарищами – мы же были ещё дети.
Кострома стоит на реке Волга, и большую часть свободного времени все ребята проводили именно на реке. Основным было: ловля рыбы, а её было очень много, и она шла, как продукт питания. А ещё катание на весельных лодках, часто наперегонки, и плавание. Все пацаны ловили рыбу на удочки. Большей частью, удочки и оснастку делали сами, ничего купить было невозможно, да и денег на это не было. А ещё я любил кататься, и даже немного путешествовать, по округе на велосипеде, который мне оставил Отец, переехавший в Ярославль. Велосипед был хороший, для взрослых, и я с трудом доставал до педалей. Единственной проблемой были частые проколы шин, которые я научился заклеивать кусками тонкой резины.
В то время у меня было два друга: Благовещенский и Полетаев, (ныне, когда пишутся эти строки, уже покойные, земля им пухом). Мы вместе гоняли на велосипедах, рыбачили, катались на лодках помогали друг другу, переплывая Волгу, чтобы оказаться на пустынных песчаных пляжах. Несколько раз мы отправлялись в г. Ярославль на теплоходе, где жил мой отец. (Он жил отдельно.) Это было хорошее время. Отец встречал нас, водил на экскурсии по городу и на свою работу, где мы сытно ели в заводской столовой. Из дальних путешествий на велосипеде самыми интересными были поездки в историческое и живописное селение Плес, что тоже стояло на берегу Волги. Там много храмов, дома старого уклада архитектуры. Излюбленное место для многих столичных художников, которые селились тут на лето, находили для себя интересные местечки и рисовали с натуры, делали этюды. Смотреть за их работой можно было бесконечно.
Были у нас игры и во дворах домов и на улицах. У нас была популярна «лапта» – для этой игры мы сами делали «чижики» и «биты». В «городки» мы играли мало – не было специальных бит, которыми надо было выбивать городки с «площадки». Но за этой игрой, как и за волейболом, мы больше наблюдали, как играли взрослые на специальных площадках, куда нас играть не пускали. Футбол я не любил. Да в моём окружении и не было ребят, у кого бы был мяч. Летом, в каникулы, мы играли в «казаки-разбойники», разделившись на две команды, куда входили и девочки. Подолгу играть нам не удавалось – у каждого были обязанности в семье (принести воды, уложить дрова, сбегать в магазин по мелочи, наловить рыбы к ужину, и другие) и их надо было исполнять.
Я рос и мужал от трудностей не только в учебе и от практики в Техникуме, но и от нервозных взаимоотношений матери и отца, что-то у них там не клеилось, но я в этом тогда ничего не понимал. Как потом оказалось, отец мой работал в Техникуме пока я там учился, опасаясь репрессий для меня со стороны Директора, которому курс химии для учащихся казался совершенно ненужным, от чего и был конфликт отца-химика и Директора Техникума.
В 1935-м году я закончил учиться, и отец с мамой сразу развелись. Отец окончательно перебрался из Костромы в Ярославль, где поступил на работу в Химическую лабораторию «Резиноасбестового Комбината», где занимался созданием искусственного каучука и потом шинного завода, известного на всю страну.
При разводе отца с мамой, Суд решил оставить меня с мамой – это было и моим желанием, но по жизни я понял, что ошибся, но примириться с тем, что отец «меня бросил» так и не смог.
Еще раньше уехала из дома моя единственная сестра Соня, которая была на два года старше меня. В Иваново она поступила учиться в Сельскохозяйственный Институт. Мы с ней были дружны и много времени проводили вместе, хоть она была и старше меня. Не понимаю почему, но у неё не сложились отношения с мамой и это стало основной причиной её отъезда. Потом я узнал, что в нашем Роду существовало проклятие, по которому: пока не родится умный ребенок – не отрицающий авторитет и значимость своих родителей, будут конфликты между родителями и детьми. В Роду был священник, который проклял сына, женившегося не на той девочке. Мистика, но «ненормальности» в семье были и у Деда, и у моего отца, потом и в нашей с женой семье. Может у детей будет лучше.
Я тосковал по сестре. Часто вспоминалось, как еще за год до окончания семилетки родители отправили нас летом в деревню Становщиково, что на Волге недалеко от Костромы. Там родители сняли для нас в крестьянском доме маленькую комнатку, в которой мы ночевали. Питались мы так: я ходил на Волгу и рыбачил, приносил в хату окуней, плотвичек, ершей и пескарей на всех, на нас с Соней и хозяев. Пескарь рыба, живущая только в чистейшей воде. Сейчас этой рыбы в Волге нет. А ещё мне приходилось ходить в соседний лес, в котором в изобилии росла дикая малина, земляника, черника, были и грибы. Всё это попадало на общий стол. Хозяйка часто готовила жареную картошку с грибами и это для нас был праздник. Никакого разнообразия и регулярного питания до сыта не было. Часто мы с Соней ходили в лес вместе. Я плутал по лесу и не мог найти путь обратно к дому, но Соня выводила нас.
По вечерам, когда коровы приходили с пастбища, я ходил в соседнюю деревню Шибаевка за парным молоком. Дорога от нас туда проходила среди посевов ржи, пшеницы и льна. Возле дороги росли семь высоких прекрасных сосен! Похожий пейзаж изображен на картине Шишкина, которая висит сейчас у нас дома. Я ежедневно любуюсь на нее и вспоминаю свое детство.
Один раз в неделю, на воскресенье, к нам приезжал на теплоходе из Костромы наш Папа – Алексей Митрофанович! Он привозил нам продукты. Мы гуляли по окрестным полям и перелескам, слушая его рассказы на разные темы. Так начиналась моя самостоятельная жизнь.
В детские годы я читал очень много книг. Это заложил во мне отец. Больше всего мне нравились книги, наверное, как всем мальчикам, про путешествия и различные приключения и я перечитал всего Жуль Верна, Майн Рида, Фенимор Купера, Конан Дойла и многих других писателей. Поэзия меня не привлекала.
Отец научил меня, при чтении книг, обязательно делать пометки в них карандашом, а в дневнике записывать: автора, название книги, краткое содержание и свои впечатления о прочитанном – понравилась или нет, и обязательно почему, важные цитаты. Надо сказать, что в жизни мне это сильно помогало. В мозгу откладывались интересные мысли, суждения, я привык анализировать прочитанное.
У меня и сейчас в кладовке лежат несколько тетрадей с записями о прочитанных мной книгах (к чему мы храним старые вещи?). Уже к 7-му классу, я прочитал порядка 600 книг!
«Подобные мои способности» помогали учиться в Академиях и после в работе. Эти мои навыки даже были использованы Чкаловской Библиотекой Дома Офицеров, заведующая которой поручала мне, как постоянному читателю, составлять краткие аннотации на поступающую в библиотеку художественную литературу. Это же было потом и в библиотеке Ахтубинска, где я проработал более пяти лет.
Подобный опыт критической оценки прочитанных мной книг, и технических, и художественных, очень пригодился мне в жизни. Я рос довольно любознательным и пытливым мальчишкой. Меня интересовало всё новое в окружающей меня жизни, особенно технические вопросы и географические.
Я не только читал книги о путешествиях, но и стремился сам совершать какие-либо походы, познавая окрестные места, а позже, когда была машина, и Страну. Очень любил бывать на «дикой» природе.