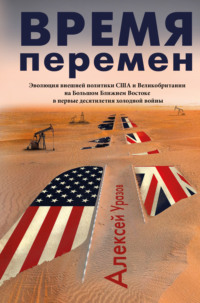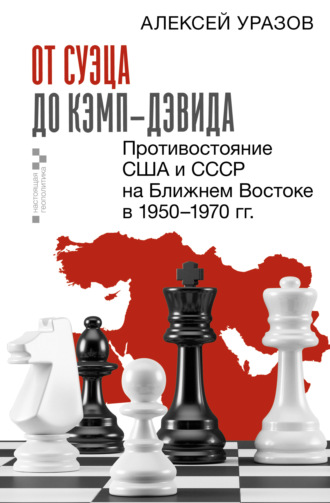
От Суэца до Кэмп-Дэвида. Противостояние США и СССР на Ближнем Востоке в 1950–1970 гг.
Советский Союз действительно обыгрывал США на треке взаимодействия с Египтом. В июле 1955 г. руководство Египта приглашает советского представителя на празднование третьей годовщины Июльской революции. Москва делегирует туда руководителя Комитета по международным делам Верховного Совета СССР, главного редактора газеты «Правда» Дмитрия Трофимовича Шепилова. Обширный аналитический материал за подписью главы Отдела стран Ближнего и Среднего Востока МИД СССР Г.Т. Зайцева констатировал широкий спектр взаимных интересов СССР и Египта в области реализации проектов развития экономики Египта, привлечения новейших технологий и культурного обмена. Отдельным направлением сотрудничества, которое к середине 1955 г. находилось в зрелом состоянии, был вопрос поставок вооружений в Египет. «Египтянам был дан положительный ответ по этому вопросу, и в настоящее время идут переговоры о продаже Египту чехословацкого вооружения, производимого по нашим лицензиям», – резюмировал Зайцев. Демонстративное присутствие на торжественных мероприятиях в Каире видного представителя партийной элиты говорило о желании двух сторон показать вышедший на качественно новый уровень формат взаимодействия СССР и Египта.
Конкретным событием, убедившим руководство Египта в необходимости наращивания военного потенциала, стали вооруженные столкновения с войсками Израиля на территории подконтрольного Египту сектора Газа в сентябре 1955 г. В ходе боев египетские войска потерпели ряд поражений от вооруженных сил Израиля[19], хорошо укомплектованных французской и американской техникой.
В итоге в сентябре 1955 г. между правительствами Чехословакии и Египта был подписан торговый договор о поставках хлопка из Египта. «Троянский конь» (именно так называли контракт в западной прессе того времени[20]) фактически выступал прикрытием действительных целей контракта.
Договор о поставках оружия из стран социалистического лагеря нарушил монопольное право стран Запада на поставки вооружения в регион. Став следствием недальновидности Вашингтона в отношениях с некоторыми ближневосточными государствами и результатом конкретных шагов Насера, подписание контракта еще более дестабилизировало ситуацию в регионе, открыв путь к его стремительной милитаризации.
Для США это стало существенным ударом по их интересам в регионе. Фактически договор был первой реальной попыткой проникновения СССР на Ближний Восток, и это вызвало в Вашингтоне серьезную озабоченность[21]. Примечательно, что «проникновение» произошло именно на юге Ближнего Востока, а не на севере, где США и Великобритания так тщательно прорабатывали план обороны.
Более того, СССР продемонстрировал гибкий и прагматичный курс в отношении страны, официально являвшейся одним из столпов Движения неприсоединения[22]. Начало поставок оружия из Чехословакии объективно создало материальный базис для радикализации линии Насера в диалоге со странами Запада. Именно этого, судя по протоколам заседаний ЦК КПСС того периода, добивалось руководство СССР[23]. Правдивость этого вывода доказал и ход событий Суэцкого кризиса 1956 г.
В этих условиях курс Вашингтона по отношению к Каиру начинает постепенно ужесточаться. В октябре 1955 г. Даллес готовит доклад для закрытого слушания в Госдепартаменте, в котором излагает свое видение дальнейшей политики США на Ближнем Востоке. В докладе говорилось, что текущая ситуация в регионе требует создания сфер влияния Великобритании и США, дабы более эффективно пресекать попытки советского проникновения. В качестве мер по «усмирению» Египта госсекретарь предложил организовать экономическую блокаду Египта, перекрыв экспортно-импортные каналы с Англией и Суданом[24].
Одновременно с этим в Вашингтоне разрабатывался план конфронтации с Египтом – сирийско-египетский союз рассматривался как направленный откровенно против Багдадского пакта. Предвосхищая дальнейшее расширение сферы влияния Насера, в Госдепартаменте постановили, что усилия США должны быть направлены на удержание Иордании и Ливана в сфере влияния Запада[25].
24 октября 1956 г. военное давление Израиля на западном берегу реки Иордан вынуждает короля Хусейна заключить военный пакт с Египтом и Сирией. Вхождение Иордании в проегипетский лагерь окончательно зафиксировало существование двух противостоящих группировок государств на территории Ближнего Востока. Следует рассматривать события Ближневосточного кризиса 1956–1958 гг. в региональном ракурсе через призму существования внутрирегиональных трений. Именно их наложение на генеральный конфликт биполярного мира превращало его в конфронтацию с широким участием сторон.
Гарантируя большую безопасность страны посредством закупки вооружений у государств Восточного блока в конце 1955 г., Насер решил обеспечить экономический подъем страны. Ключом к этому было давно запланированное строительство Асуанской гидроэлектростанции на Ниле. Стоимость проекта оценивалась в 1,3 млрд долларов, и без внешней финансовой поддержки Египет был неспособен решить эту задачу.
На предварительном этапе Вашингтон выразил желание участвовать в финансировании строительства Асуанской плотины, выделяя, наряду с Великобританией (14 млн долларов) и МБР (200 млн долларов), сумму в 56 млн долларов. Однако затем последовал резкий отказ. Это решение американцы объяснили тем, что египетская экономика слишком слаба, чтобы осуществить такой проект. Реальные причины отказа в финансировании можно усматривать в том, что конгрессмены от южных штатов были резко против финансирования проекта, так как это невольно подорвало бы их позиции на мировом рынке хлопка[26]. Вторым фактором стало дипломатическое признание коммунистического Китая, о котором официальный Каир заявил 16 мая 1956 г. Третья причина – уверенность Вашингтона в том, что в случае одностороннего отказа Вашингтона СССР все равно не станет выступать в качестве кредитора проекта, а это в итоге вынудит Насера вернуться к начальным условиям, однако тогда Вашингтон уже сможет навязать Каиру гораздо более жесткие требования, пользуясь безвыходностью ситуации.
26 июля 1956 г. египетское правительство издало декрет о национализации Суэцкого канала. До национализации Суэцкий канал эксплуатировался Всеобщей компанией Суэцкого морского канала, 41 % акций которой принадлежал Великобритании, а 52 % – Франции. Формально Египет получал прибыль в размере 15 % общего числа доходов. Согласно декрету от 26 июля были заморожены банковские счета, наложен арест на транспортные суда, работники компании автоматически переходили в подчинение египетскому правительству и продолжали исполнение своих обязанностей. В документе регламентировался также процесс выплаты компенсаций сторонам. Заметим, что в документе ничего не говорилось о том, что египетская сторона закрывает Порт-Саид для свободного прохождения судов стран мира[27].
Реакция западных стран не заставила себя ждать. В тот же день правительства Великобритании и Франции объявили акт национализации незаконным. Правительство США присоединилось к ним на следующий день[28].
Столь быструю и резкую реакцию западных стран легко объяснить. Насеру не могли простить «коварство», с которым он объявил о национализации канала именно в тот момент, когда последние отряды английских войск покинули базы в зоне Суэцкого канал согласно англо-египетскому договору октября 1954 г., и нарушил положения договора 1888 г. о свободе пользования каналом[29].
Но гораздо важнее экономический аспект проблемы. Суэцкий канал являлся важнейшей транзитной артерией между Европой и Азией. Англия была главным клиентом компании Суэцкого канала, и в 1955 г. на ее долю пришелся 21 % танкерных тоннажных сборов, 45 % сборов за нетанкерный тоннаж и 28 % чистой вместимости тоннажа зарегистрированных перевозок[30]. В абсолютных цифрах на долю Великобритании приходилось от 9 до 10 млн ф. ст. от общих сборов пошлины (в тот год они равнялись 32,5 млн ф. ст.)[31].
На момент национализации через канал проходило до 1/6 всех торговых судов мира ежедневно. Путь через Суэц позволял кораблям стран Западной Европы, идущим в Индийский океан и страны Юго-Восточной Азии, проходить на 4900 миль меньше, нежели в случае огибания всего Африканского континента, – это экономило время и уменьшало издержки. До 65 % (т. е. 67 млн тонн) нефтяных поставок из района Персидского залива, Красного моря и Адена проходило именно через Суэц. На 1955 г. 85 % энергопотребления Великобритании было обеспечено нефтью Кувейта, шедшей транзитом через Суэцкий канал[32]. Положение усугублялось и тем, что экспортная труба ближневосточной нефти из Ирака, идущая на Запад и пропускавшая 860 тыс. баррелей нефти ежедневно, проходила по территории Сирии. После свержения режима Адиба аш-Шишакли в 1954 г. новое пронасеровское сирийское руководство не раз заявляло о возможности перекрытия экспортной трубы в случае оказания на Египет и его союзников военного давления.
Альтернативным источником экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока стала экспортная труба, шедшая в Средиземноморье из Саудовской Аравии. При всей лояльности Западу режима Саудитов размеры ежегодных нефтяных поставок в 325 тыс. баррелей не могли компенсировать объемы, шедшие на Запад из Ирака[33]. Экспортерами нефти были и другие страны Персидского залива. Иран и Кувейт ежедневно отправляли на Запад от 1 млн 300 тыс. до 2 млн баррелей нефти, которые шли танкерным транзитом по Суэцкому каналу. Цифры говорят о том, что проблема энергозависимости стояла остро именно потому, что транспортировочные магистрали становились самой уязвимой стороной Запада в противостоянии с насеризмом[34].
Запад видел выход из сложившейся ситуации в созыве международной конференции и установлении на ней международного контроля над каналом, о чем было заявлено 13 сентября 1956 г.[35] Эта мера была результатом коллегиального решения Великобритании, Франции и США.
Стороны сознательно выбрали такую формулу разрешения кризиса, а не посредничество Совета Безопасности ООН, в составе которого был СССР, обладавший правом вето. В связи с этим премьер-министр Великобритании Энтони Иден писал в мемуарах: «Русские, которые являются и поставщиками оружия, и защитниками Насера, имеют право вето, и я не сомневаюсь, им воспользуются. Они сведут к нулю любые наши начинания в Совете Безопасности»[36].
Уже в ходе обсуждения проблем национализации Суэцкого канала, которая проходила на заседании Палаты общин еще 2 августа 1956 г., Иден заявил, что он «осведомляет палату о том, что намерен рассматривать меры военного характера как средство укрепления позиций Великобритании в зоне Восточного Средиземноморья»[37].
В Вашингтоне понимали, к чему может привести такая позиция Лондона. В связи с этим послу США в Москве Чарлзу Болену поручили посетить Председателя Совета министров СССР Николая Александровича Булганина и передать ему конфиденциальное послание президента Эйзенхауэра. Из текста отчета о визите, состоявшемся 7 августа, можно понять, что президент США «желал выяснить отношение Советского правительства к предложению урегулирования спорного международного вопроса о соблюдении международных договоров». Эйзенхауэр заявлял, что США вступили на путь мирного разрешения конфликта и хотели бы, чтобы СССР тоже приложил усилия в этом направлении и использовал свое влияние. Как подчеркнул Булганин, позиции советской и американской сторон в этом вопросе совпадали[38]. Болен вспоминал в мемуарах, что еще 3 августа в разговоре с госсекретарем США Даллесом последний настоял на том, что «необходимо донести до русских, что для США наиболее приемлемым вариантом разрешения суэцкой дилеммы было бы именно двустороннее сотрудничество с Москвой»[39].
Лондонская конференция по суэцкому вопросу состоялась 16–23 августа 1956 г. В ней приняли участие 22 страны, включая ведущие страны капиталистического мира и СССР; Египет и Греция решили не посылать своих представителей для участия в конференции. Действия Египта, очевидно, были не только направлены на демонстрацию уверенности в выбранном курсе в отношениях со странами Запада, но были скоординированы с Москвой. На заседании ЦК КПСС 5 августа 1956 г. в отношении вопроса о целесообразности участия представителей от СССР в Лондонской конференции по суэцкому вопросу было дано постановление: «Тактически не выгодно не участвовать»[40]. Касательно тона резолюции СССР по рассматриваемому вопросу председатель правительства Булганин высказался о том, что «на совещании надо сыграть роль великой державы. Твердо позицию выдержать, но проводить ее надо гибко, объективно и не оказаться в плену политического задора Насера»[41].
В итоге страны – участницы конференции в финальным коммюнике признавали национализацию канала[42]. Было решено принять «план Даллеса», предполагавший передачу функций управления каналом международному органу, получившему название Ассоциации пользователей Суэцким каналом[43]. (Создание наднационального органа управления каналом было оформлено в результате второй Лондонской конференции, состоявшейся 21 сентября 1956 г.[44], не внесшей принципиальных изменений в ход процесса урегулирования суэцкого вопроса.)
В начале сентября в Каире состоялись переговоры между правительством Египта и «комитетом пяти держав» в составе США, Австралии, Ирана, Швеции и Эфиопии, выразившим мнение 18 стран – участниц Лондонской конференции[45].
Притом что Каир отверг принцип международного управления каналом, египетская сторона тем не менее выразила готовность без ущерба для суверенитета страны достичь соглашения об обеспечении свободного судоходства, разрешить вопрос о его усовершенствовании и о сборах за проход судов[46].
Однако решения, принятые на встрече в Каире, не успокоили английскую прессу; скорее наоборот, – на страницах журнала The Economist начинают появляться аналогии, проводимые между событиями Суэцкого кризиса и событиями Мюнхенского кризиса 1938 г. Действия Насера все чаще начинают сравнивать с действиями Гитлера, а внешнюю политику Великобритании, не стесняясь, называют «политикой умиротворения»[47].
Похожие настроения царили и в правительственных кругах. Несмотря на то что предпосылки к мирному разрешению Суэцкого кризиса несомненно имелись, правительства Великобритании и Франции были изначально решительно настроены на военный метод «усмирения» Насера и ликвидацию его влияния над важнейшей транспортной артерией мира. К этому их прежде всего подталкивала опасность кризиса национальных экономик. Иден упоминал в мемуарах, что «стратегического запаса нефти у Англии хватило бы не более чем на шесть недель, ситуация в других европейских странах была еще хуже»[48].
Логику развития ситуации вокруг канала в Вашингтоне прекрасно понимали. Из опубликованных позднее документов видно, что Соединенные Штаты придерживались более гибкой линии, в том числе надеясь упрочить свое преобладание в арабском мире. Как следует из записи беседы госсекретаря Даллеса с президентом Эйзенхауэром 30 августа, уже после проведения Лондонской конференции госсекретарь заявил, что «престиж Насера» возрос только «временно» и нет резона «применять силу». «Я не вижу никакого выхода из положения, который мог бы быть найден, – подчеркнул Даллес, – если англичане и французы оккупируют канал и часть Египта. Они вызовут лишь усиление враждебного отношения со стороны всего населения Ближнего Востока и большей части Африки. <…> В итоге их экономические позиции станут слабее, а Советский Союз извлечет из этого выгоду и приобретет там господствующее влияние»[49]. В условиях приближающихся выборов президент был склонен согласиться с Даллесом.
Английская и французская стороны высказали глухое недовольство «излишней мягкостью» Вашингтона.
Париж и Тель-Авив тесно сотрудничали друг с другом с 1954 г., когда было заключено англо-египетское соглашение о выводе британских войск из Египта. Израиль, объявивший, что вывод войск делает его территорию уязвимой для египетских атак, старался наладить эффективное сотрудничество с Францией. Последняя, потеряв свои позиции в Ливане и Сирии и испытывая серьезные затруднения в Северной Африке, была настроена далеко не дружественно по отношению к арабским режимам и особенно к Египту[50].
13 октября 1956 г. в Париже прошли секретные переговоры французских и израильских военных представителей. 24 октября на встрече в г. Севре окончательно оформился англо-франко-израильский блок и был проработан план военной операции, получившей название «Мушкетер»[51].
В ночь с 29 на 30 октября в соответствии с разработанным планом войска Израиля начали наступление на территорию Египта. Через несколько часов правительства Англии и Франции направили ультиматум правительствам Израиля и Египта, в котором требовали отвести их войска на 10 миль к востоку и западу от Суэцкого канала. Условия были приняты Израилем и отвергнуты Каиром. Израиль, приняв ультиматум, продолжил наступление на территорию Синайского полуострова; через два дня израильские войска оккупировали весь полуостров и сектор Газа.
Поскольку Египет категорически отверг англо-французский ультиматум, войска этих стран 31 октября начали наносить авиационные удары по позициям египетской армии. После проведенной высадки десанта в городах завязались уличные бои. Войскам Англии и Франции удалось взять под контроль Порт-Саид – ключевой пункт в зоне канала. Ситуация предвещала затяжные бои на протяжении ближайших месяцев.
30 октября вопрос об обстановке в зоне канала был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН. Англия и Франция, воспользовавшись правом вето, фактически заблокировали принятие любой резолюции, осуждающей их действия. Вместо нее 31 октября была принята резолюция № 3721, предписывавшая собрать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для обсуждения сложившейся ситуации[52].
2 ноября на чрезвычайной специальной сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную США резолюцию, которая предписывала немедленное прекращение огня. Одновременно с этим нажим на Лондон и Париж оказала советская сторона. Иден в мемуарах писал, что в эти дни Председатель Совета министров СССР Булганин неоднократно уведомлял английскую сторону в том, что «СССР не станет самоустраняться, в случае если ситуация примет критическое положение»[53]. 5 ноября советская сторона направила в Лондон, Париж, Вашингтон и Тель-Авив официальные ноты, содержащие угрозу применения силы со стороны СССР, если агрессия не будет прекращена.
Положение начала октября 1956 г. явило миру редкий случай, когда желание двух сверхдержав быстро нейтрализовать конфликт фактически совпадало. Скорее, это была оборотная сторона «биполярной логики».
Тональность официальной ноты для Вашингтона разнилась с текстами, направленными в столицы стран-агрессоров. В обращении к президенту США Эйзенхауэру отмечалось, что развязывание войны против Египта является началом «разбойничьей войны». Чтобы предотвратить происходящее, советское правительство предложило США объединить усилия для принятия мер по пресечению агрессии, вплоть до совместного применения своих вооруженных сил по решению ООН[54].
Советская сторона ограничилась лишь предупреждениями, не прибегнув к широкомасштабной помощи Насеру[55]. Определенную роль в этом сыграло и то, что синхронно с Суэцким кризисом в Венгрии, стране Восточного блока, началось восстание, усмиренное при помощи силы (октябрь – ноябрь 1956 г.). Совпадение по времени двух кризисов фактически ограничило поле действия для СССР. Трудно утверждать наверняка, но динамика кризиса и линия поведения Вашингтона показали, что американская сторона старалась сознательно избежать лобового удара с советскими «специалистами» или с более серьезной советской поддержкой. Такие позиции сверхдержав привели к быстрой локализации кризиса и его скорому разрешению.
Принципиальным моментом в анализе англо-американских отношений является то, что против агрессии в Египте выступил и президент США Эйзенхауэр, заявивший, что «…эти действия стали результатом ошибки… и они вряд ли совместимы с принципами и целями ООН, к которой мы все принадлежим»[56]. В принципе, такую реакцию США могли ожидать и в Лондоне, и в Париже. На консультативных встречах США, Англии и Франции госсекретарь Даллес постоянно подчеркивал, что «не рассматривает военную акцию как возможную меру»[57], но США тем не менее будут всячески содействовать Великобритании и Франции.
Поведение Даллеса в ходе Суэцкого кризиса вновь подтвердило правильность вывода о нем как о «государственном секретаре периода ранней “холодной войны”, не считавшем, в отличие от предыдущего госсекретаря Дина Ачесона, необходимым консультироваться по важным вопросам с союзниками США и в первую очередь с Великобританией»[58].
Обтекаемость формулировок Вашингтона оставляла массу вопросов. Англия и Франция были убеждены, что, будучи союзниками по НАТО, Соединенные Штаты автоматически поддержат военную акцию. Однако в данном случае речь шла о более тонкой игре США. Вашингтон рассматривал НАТО как сугубо европейский военно-политический блок по сдерживанию СССР[59]. На территории Ближнего Востока США руководствовались иной логикой и не собирались рисковать собственными государственными интересами во имя Англии и Франции. Более того, еще в первый день Суэцкого кризиса 27 июля 1956 г. заместитель госсекретаря США Герберт Гувер-мл. заявил на официальном заседании в Белом доме, что США не рассматривают механизм НАТО как недопустимый к использованию, ибо в вопросе имеют интерес несколько европейских держав[60].
Великобритания и Франция были вынуждены формально подчиниться резолюции ООН от 2 ноября. Решение о прекращении огня принято Великобританией 6 ноября, а Францией и Израилем – 7 и 8 ноября соответственно. Согласно выработанному механизму войска Англии и Франции покинули Египет в декабре 1956 г., а войска Израиля – в марте 1957 г. Вдоль согласованной линии перемирия были размещены миротворческие силы ООН[61].
В итоге англо-франко-израильская агрессия не принесла ощутимых результатов ни одной из сторон, которые были вынуждены повиноваться резолюциям ООН и за которыми явственно стояли действия США и СССР.
Неожиданно для Англии и Франции США отошли от политики нейтралитета в ходе кризиса и приложили ряд усилий по противодействию Англии и Франции. Это не вписывалось в представления элит западноевропейских стран о «союзничестве по НАТО»[62].
События в зоне Суэцкого канала спровоцировали внутриполитический кризис Четвертой Французской республики. Они подвели черту под «английским веком» на Ближнем Востоке, что выразилось в стремительной сдаче английских позиций как в военном, так и в экономическом аспекте. Участие Великобритании в тройственной агрессии незамедлительно отразилось на национальном фондовом рынке, поставив курс фунта стерлингов на грань полного обвала[63].
Экономически проблемы, вызванные Суэцким кризисом, внесли изменения в общемировой статус-кво[64]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Термин «Большой Ближний Восток» (the Bigger Middle East), широко использующийся в современной историографии, подразумевает политико-экономический макрорегион – от восточной части Средиземноморья до региона Центральной Азии. Подробнее см.: Гусейнов В., Денисов А., Савкин Н., Демиденко С. Большой Ближний Восток: стимулы и предварительные итоги демократизации. М., 2007; Воскресенский А.Д. (ред). Предмет и задачи изучения региональных подсистем международных отношений // Восток / Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. М.: Росспэн, 2002.
2
Телеграмма посланника СССР в Египте С.П. Козырева в МИД СССР, 29 января 1953 г. // АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7 П. 13. Д. 4. Л. 35–39 // Ближневосточный конфликт: из документов архива внешней политики РФ. 1947–1967. Том 1: 1947–1956. М., 2003. С. 180–181.
3
NSC 162/2. Report to the National Security Council by the Executive Secretary James S. Lay, Jr., October 30, 1953 // FRUS, 1952–1954, National Security Affairs, Vol. II, Part 1, pp. 577–597.
4
John Foster Dulles, Evolution of Foreign Policy. Text of Speech by John Foster Dulles, Secretary of State, Before The Council On Foreign Relations, New York, N. Y., January 12, 1954 (Department Of State, Press Release No. 8, 1954).
5
The Middle Eastern Journal, Oct. 1952, p. 239.
6
Foreign Relations of the United States, 1952–1954, IX, p. 21.
7
Matthew F. Jacobs The Perils and Promise of Islam: The United States and the Muslim Middle East in the Early Cold War // Diplomatic History, Vol. 30, Number 4, September 2006, p. 733.