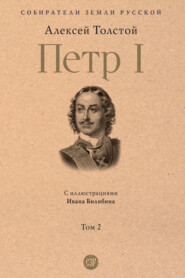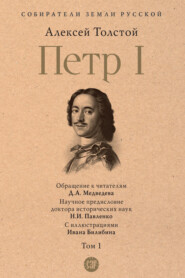По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Граф Калиостро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Всё это мелочи, – проговорил он, зевая, – идёмте спать.
Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумлённо, радостно усмехнулась запёкшимися губами. Алексей Алексеевич взял со стола зажжённый канделябр и отогнул в арке занавес, пропуская вперёд себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, он поднёс горящие свечи к занавесу, и алый бархат его мгновенно был охвачен огнём.
– Пожар! – не своим голосом закричал Алексей Алексеевич, швыряя канделябр, и побежал по длинной галлерее, загибающей к флигелю, где были гости.
Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Прасковья Павловна, вскрикивая, срывала худыми руками пылающий занавес. Когда вдали галлереи послышались голоса и топот ног, Алексей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к его глубокой нише.
XV
Мимо него пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон в развевающемся халате и Калиостро, в ночном колпаке, в пёстрой длинной рубахе и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда вела одна дверь со стороны галлереи, другая открывалась прямо в сад. Там-то он и увидел Марию, стоящую на пороге. Она была в белой шали, накинутою поверх платья, и в чепчике. Алексей Алексеевич распахнул окно, выскочил из галлереи в сад и подбежал к молодой женщине.
– Мария, – проговорил он, складывая руки на груди, – скажите одно только слово… Подождите… Если – нет, я погиб… Если – да, я жив, жив вечно… Скажите, любите вы меня?…
У неё вырвался лёгкий короткий крик, она подняла руки, обвила ими шею Алексею Алексеевичу и с откинутой головой, с льющимися слезами, сквозь слёзы, в глаза ему, проговорила взволнованно:
– Люблю вас.
И когда она сказала эти слова, с него спали чары: сердце растопилось, горячие волны крови зашумели по жилам, радостно вдохнул он воздух ночи и благоухание юного тела Марии, взял в ладони её заплаканное лицо и поцеловал в глаза:
– Мария, бегите этой аллеей до пруда, ждите меня в беседке. Не забудьте: когда вы перейдёте мостик, дёрните за цепь, и он поднимется… Там вы будете в безопасности…
Мария кивнула головой, в знак того, что всё поняла, и, придерживая платье, быстро пошла по указанному направлению, обернулась, усмехнулась радостно и скрылась в густой тени аллеи.
Тогда Алексей Алексеевич вытащил из ножен шпагу и кинулся в дом через балконные двери.
Сбив с ног Фимку, решительно отстранив Федосью Ивановну, повисшую было на его руке, растолкав перепуганную челядь, он вбежал в библиотеку. Комната была полна дыма. Пять свечей второго канделябра едва-едва коптяще-красными язычками освещали разбросанные по всему полу книги из повалившегося шкафа, Маргадона, который топтал тлеющий ковёр, и Калиостро, присевшего у кресла, и в кресле – сморщенное, с тёмными ребрами существо, едва прикрытое лохмотьями обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевича оно зашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему навстречу. Но он, вскрикнув, вытянул перед собой шпагу, и оно, с воплем отчаяния и злобы, отшатнулось от устремлённого на него лезвия, кинулось в глубь комнаты и исчезло за книжными шкафами.
В то же время Калиостро, загородившись креслом, делал Маргадону знаки. Эфиоп оставил топтать ковёр и стал сбоку приближаться к Алексею Алексеевичу, вытягивая нож из-за пояса. Но тот, предупреждая прыжок, сам выбросился вперёд с вытянутой рукою, и лезвие шпаги до половины вонзилось Маргадону в плечо. Эфиоп крякнул и, хватая воздух, повалился навзничь. Тогда Калиостро швырнул в Алексея Алексеевича креслом и, загораживаясь предметами и бросая их, вертелся по комнате с необыкновенным для его лет и тучности проворством. Алексей Алексеевич гонялся за ним, стараясь ударить шпагой. Но Калиостро удалось выскользнуть в галлерею, откуда он выпрыгнул через первое же открытое окно в сад и большими прыжками, задирая голые ноги, побежал к прудам.
Алексей Алексеевич настиг его лишь у мостика, ведущего к беседке, где между колонн смутно белело платье Марии. Калиостро, зарычав, кинулся через мостик, не видя, что средняя часть его поднята, – взмахнул руками и с тяжёлым плеском, как куль, упал в воду. Раздался слабый крик Марии. Заиграла лунная зыбь по поверхности пруда, и, низко над травой, с длинным свистом, пролетела испуганная птичка. И снова стало тихо; ни звука ни на пруду, ни в тёмных древесных чащах.
Алексей Алексеевич, всматриваясь, взошёл на мостик и наклонился у края разъятой его части. И вдруг у самой сваи, у воды, увидел глаза, – они медленно мигнули. Он различил поднятое лицо, щетинистый череп и торчащие уши Калиостро.
– Наверх вы всё равно не подниметесь, – сказал ему Алексей Алексеевич, – свая склизкая, и я предупреждаю: если вы только опять начнёте свои фокусы, я вас заколю. Вы негодяй? – Он фыркнул носом. – Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат.
Он приложил ладони ко рту и закричал: – Эй, люди, сюда! – И скоро вдали раздались голоса людей, и начали подбегать мальчишки, дворовые мужики, девки, кто с вилами, кто с косой, кто просто с дубиной, – все были спросонок и встрёпанные.
Алексей Алексеевич приказал принести верёвок, связать Калиостро и вытащить из воды. Трое рослых мужиков, сняв портки и крестясь, полезли в воду. Под мостиком, между сваями, началась возня. «Алексей Алексеевич, он, пропасти на него нет, царапается», – кричали оттуда. «За щёки его хватай, тяни из воды!» – кричали с мостика.
Наконец Калиостро скрутили верёвками и вытащили на берег. Он более не сопротивлялся и, в облипшей рубашке, опустив голову и постукивая от холода зубами, пошёл в толпе дворовых к дому.
Алексей Алексеевич, оставшись один, стал звать Марию, сначала тихо, потом всё громче, испуганнее. Она не отвечала. Он обежал пруд, вскочил в утлую лодочку и, упираясь шестом, переехал на островок. Мария лежала в беседке на деревянном полу. Алексей Алексеевич обхватил её, приподнял, прислонил к себе её бессильно клонившуюся голову и, целуя её лицо, едва не плакал от жалости и любви к ней. Наконец он почувствовал, как её тело стало легче, поднялась и опустилась её грудь, и светловолосая голова её легла удобнее на его плечо. Не раскрывая глаз, Мария проговорила едва слышно: – Не покидайте меня.
XVI
Пожар удалось потушить. Выгорела лишь библиотечная комната, – водою и огнём в ней попорчено было много книг и вещей, и дотла сгорело полотно на портрете Прасковьи Павловны.
На рассвете к крыльцу подали телегу, в неё на свежее сено положили вещи гостей и посадили Маргадона, – он был совсем плох: весь серый, земляного цвета, с отвисшим ртом и с головою, закутанной в два тёплых платка. Народ, стоявший у крыльца и вокруг телеги, стал жалеть старика, – всё-таки человек подневольный, слуга, пропадает не по своей охоте. Скотница дала ему на дорогу калёное яичко. Зато, когда вывели всё ещё связанного Калиостро, в нахлобученном кое-как парике и в шляпе с растрёпанными перьями, в накинутой поверх ночной рубашки песцовой шубе, мальчишки засвистали, бабы начали плеваться, а подслеповатый мужик Спиридон, без шапки, распоясанный и босиком, всю ночь больше всех суетившийся на глазах у барина, подскочил к Калиостро и развернулся, чтобы дать ему в ухо, но его оттащили. Калиостро сам влез в телегу, насупленный, с нависшими бровями. Мордатый парень, славившийся в деревне силой и отчаянностью, весело прыгнул на нахлёстки, замотал верёвочными вожжами, сивая кобылёнка влезла в хомут, и телега тронулась под свист и улюлюканье дворни.
– Федька, – закричал Алексей Алексеевич с крыльца, – повезёшь их прямо в Смоленск и там сдай городничему.
– Будьте покойны, Алексей Алексеевич, – уже издалека ответил Федька, – доставим в полном порядке, не впервой.
XVII
После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дома. Её уложили во флигеле, в спальне, предназначенной для особо именитых гостей. Над кроватью полуоткинули балдахин, на окнах спустили шторы, и Мария забылась сном. Гак она проспала до полудня. Федосья Ивановна, часто подходившая к дверям, услышала её бормотанье, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит с закрытыми глазами, ярко-румяная, и не переставая говорит про себя тихим голосом. У неё началась горячка и держала её между жизнью и смертью более месяца.
Алексей Алексеевич едва не сошёл с ума от беспокойства и в тот же день сам поскакал в Смоленск за лекарем. На обратном пути он узнал от лекаря, что к смоленскому городничему привозили на телеге двух каких-то иностранцев, городничий их сначала арестовал, а затем с большим почётом отправил по варшавскому шляху. Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одно из двух: либо горячка возьмёт своё, либо человек возьмёт своё.
Алексей Алексеевич целые дни теперь проводил у постели Марии, спал в кресле у окна, почти ничего не ел, изменился, сильно исхудал; его лицо возмужало, стали влажными глаза, в каштановых волосах появилась белая прядь.
Однажды, ближе к вечеру, он дремал и не дремал, сидя в кресле. Сквозь персиковые занавеси солнце протянуло длинные лучи с танцующими пылинками; билась сонная муха о стекло; Алексей Алексеевич, разлепляя веки, поглядывал на пылинки в луче, на муху. Каминные часы спокойно отстукивали минуты жизни. И вот, сквозь дремоту, Алексей Алексеевич начал ощущать какую-то перемену во всём, заворочался, обернулся к кровати и увидел раскрытые синие глаза Марии. Она смотрела на него и смешно морщилась от изумления и усилия припомнить что-то. Он опустился на колени у кровати. Мария проговорила:
– Скажите, пожалуйста, где я нахожусь и кто вы такой? – Алексей Алексеевич, не в силах от волнения говорить, осторожно взял её руку и прижался к ней губами. – Я. давно смотрю, как вы дремлете, – продолжала Мария, – у вас такое грустное лицо, как у родного, – она опять сморщилась, но сейчас же бросила вспоминать, – вот если бы вы открыли окно, было бы хорошо…
Алексей Алексеевич раздвинул шторы, раскрыл окна, и, вместе с тёплым и душистым воздухом сада, в спальню влетел весёлый шум птичьего свиста и пения. У Марии появился румянец. Улыбаясь, она слушала, и вот издалека три раза прокуковала запоздалая глупая кукушка. Глаза Марии налились слезами. Алексей Алексеевич наклонился к ней, она прошептала: – Спасибо вам за всё…
Вскоре она уснула крепко и надолго. Началось её выздоровление, и с этого дня Алексей Алексеевич не проводил уже более ночей в её спальне.
Вместе с выздоровлением Марии настало то, что понимала только одна Федосья Ивановна: ни минуты Алексей Алексеевич и Мария не могли пробыть друг без друга, а когда сходились – молчали: Мария думала, Алексей Алексеевич хмурился, кусал губы, стоял или сидел в совершенно неудобных для человека положениях.
Когда однажды тётушка заговорила с ним:
– Как же ты, всё-таки, Алексис, прости меня за нескромность, думаешь поступить с Машенькой? К мужу её отправишь, или ещё как? – он пришёл в ярость:
– Мария не жена своему мужу. Её дом здесь. А если она меня видеть не желает, я могу уехать, пойду в армию, подставлю грудь пулям…
Ночи он проводил скверно: его мучили кошмары, наваливались на грудь, давили горло. Он вставал поутру разбитый и до пробуждения Марии бродил мрачный и злой по дому, но едва только раздавался её голос, – он сразу успокаивался, шёл к ней и глядел на неё запавшими, сухими глазами.
Настал август. Над садом, мерцая в прудах, высыпали бесчисленные звёзды, облачным светом белел Млечный путь. Из сада пахло сырыми листьями. Улетали птицы.
В одну из таких ночей Алексей Алексеевич и Мария сидели в её спальне у камина, где, перебегая из конца в конец огоньками, догорало полено. И вот в полутьме, в глубине комнаты, из-за полога выдвинулась тень. Алексей Алексеевич вздрогнул, всмотрелся. Подняла голову и Мария. Тень медленно исчезла. Прошла минута тишины. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхватила его, прижалась и повторяла отчаянным голосом:
– Я не отдам тебя!.. Я не отдам тебя!..
В эту минуту всё разделявшее их, всё измышленное и сложное разлетелось, как дым от ветра. Остались только губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, быстротечное, быть может, грустное, – кто измерил его? – счастье живой любви.
1919