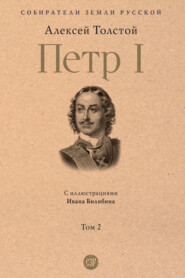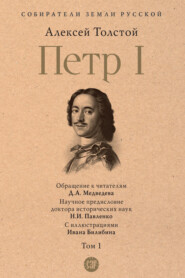По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петр Первый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
12
Шакловитый, подавшись вперед на стуле, пристально глядел на Василия Васильевича. Сильвестр Медведев в малиновой шелковой рясе, осторожно беря и покусывая холеную воронова крыла бороду, тоже глядел на Голицына. В спальне на столе горела одна свеча. Страусовые перья над балдахином кровати бросали тени через весь потолок, где кони с крыльями, летучие младенцы и голоногие девки венчали героя с лицом Василия Васильевича. Сам Василий Васильевич лежал на лавке, на медвежьих шкурах. Его знобила лихорадка, подхваченная еще в Крымском походе. Кутался по самый нос в беличий тулупчик, руки засунул в рукава.
– Нет, – проговорил он после долгого ожидания, – не могу я слушать эти речи… Бог дал жизнь, один Бог у него и отнимет…
Шакловитый с досадой ударил себя шапкой по колену, оглянулся на Медведева. Тот не задумался:
– Сказано: «Пошлю мстителя», – сие разуметь так: не Богом отнимается жизнь, но по его воле рукой человека…
– В храме орет, как в кабаке, – горячо подхватил Шакловитый. – Софья Алексеевна до сих пор не опомнится, – как напужал… Выходили волчонка, – ему лихое дело начать… Ждите его на Москве с потешными, тысячи три их, если не более. Жеребцы стоялые… Так я говорю, Сильвестр?
– Ждите от него разорения людям, и уязвления православной церкви, и крови пролитой – потоки… Когда гороскоп его составлял, – волосы у меня торчком поднялись: слова-то, цифры, линии – кровью набухали… Ей-ей… Давно сказано: ждите сего гороскопа…
Василий Васильевич приподнялся на локте, бледный, землистый…
– Ты не врешь, поп? (Сильвестр потряс наперсным крестом.) Про что говоришь-то?
– Давно мы ждали этого гороскопа, – повторил Медведев до того странно, что у Василия Васильевича лихорадка морозом подрала по хребту. Шакловитый вскочил, загремев серебряными цепочками, подхватил саблю и шапку под мышку.
– Поздно будет, Василий Васильевич… Смотри – торчать нашим головам на кольях… Медлишь, робеешь, – и нам руки связал…
Закрывая глаза, Василий Васильевич проговорил:
– Я вам руки не связываю…
Больше от него не добились ни слова. Шакловитый ушел, за окном было слышно, – бешено пустил коня в ворота. Медведев, подсев к изголовью, заговорил о патриархе Иоакиме: двуличен-де, глуп, слаб. Когда его в ризнице одевают, – митрополиты его толкают, вслед кукиши показывают забавы ради. Надо патриарха молодого, ученого, чтобы Церковь цвела в веселье, как вертоград…
– Твою б, князь, корону увила б тем виноградом божественным. (Щекотал ухо сандаловой, розовым маслом напитанной бородой…) Скажем, я, – нет и нет, не отказался бы от ризы патриаршей… Процвели бы… Васька Силин, провидец, глядел с колокольни Ивана Великого на солнце в щель между пальцами и все сие увидал на солнце в знаках… Ты с Силиным поговори… А что про Иоакима, – так ему каждую субботу четыре ведра карасей возят тайно из Преображенского… И он принимает…
Ушел и Медведев. Тогда Василий Васильевич раскрыл сухие глаза. Прислушался. За дверью похрапывал князев постельничий. На дворе по плитам шагали караульные. Взяв свечу, Василий Васильевич открыл за пологом кровати потайную дверцу и начал спускаться по крутой лесенке. Лихорадка трогала ознобом, мысли мешались. Останавливался, поднимал над головой свечу, со страхом глядел вниз, в тьму…
«Отказаться от великих замыслов, уехать в вотчины? Пусть минует смута, пусть без него перегрызутся, перебесятся… Ну а срам, а бесчестье? То полки водил, скажут, теперь гусей пасет, князь-та, Василий-та… (Дрожала свеча в похолодевшей руке.) За корону хватался, – кур щупает… (Стукнув зубами, сбегал на несколько ступеней.) Что ж это такое, – остается: как хочет Софья, Шакловитый, Милославские?.. Убить! Не его, так – он? А ну как не одолеем? Темное дело, неизвестное дело, неверное дело… Господи, просвети… (Крестится, прислонясь к кирпичной стене.) Заболеть бы горячкой на это время…»
Спустившись, Василий Васильевич с трудом отодвинул железный засов и вошел в сводчатое подполье, где в углу на кошме лежал колдун Васька Силин, прикованный цепью за ногу…
– Боярин, милостивый, за что ты меня?.. Да уж я, кажется…
– Встань…
Василий Васильевич поставил свечу на пол, плотнее запахнул тулупчик. На днях он приказал взять Ваську Силина, жившего на дворе у Медведева, и посадить на цепь: Васька стал болтать лишнее про то, что берут у него сильненькие люди зелье для прилюбления и пользуют тем зельем наверху того, про кого и сказать страшно, и за это ему дадут на Москве двор и пожалуют гулять безденежно…
– На солнце глядел? – спросил Василий Васильевич.
Васька, бормоча, повалился в ноги, жадно чмокнул в двух местах земляной пол под ногами князя. Опять встал, – низенький, коренастый, с медвежьим носом, лысый, – от переносья густые брови взлетели наискось до курчавых волос над ушами, глубоко засевшие глаза горели неистовым озорством.
– Раненько утром водили меня на колокольню, да в другой раз – в самый полдень. Что видел, не утаю…
– Сумнительно, – проговорил Василий Васильевич, – светило небесное, какие же на нем знаки? Врешь ты…
– Знаки, знаки… Мы привычные сквозь пальцы глядеть, и это вроде как пророчество из меня является, гляжу, как в книгу… Конечно, другие и в квасной гуще видят, и в решето против месяца… Умеючи – отчего же… Ах, батюшка. – Васька Силин вдруг сопнул медвежьим носом, раскачиваясь, пронзительно стал глядеть на князя. – Ах, милостивец… Все видел, все знаю… Стоит один царь, длинен, темен, и венец на нем на спине мотается… Другой царь – светел… ах, сказать страшно… три свечи у него в головке… А промеж царей – двое, сцепились и колесом так и ходят, так и ходят, будто муж и жена. И оба в венцах, и солнце промеж них так и жжет…
– Не понимаю, – чего городишь. – Василий Васильевич, подняв свечу, попятился.
– Все по-твоему сбудется… Ничего не бойся… Стой крепко… А травки мои подсыпай, подсыпай, – вернее будет… Не давай девке покою, горячи ее, горячи… (Василий Васильевич был уже у дверей.) Милостивец, цепь-то вели снять с меня… (Он рванулся, как цепной кобель.) Батюшка, пищи вели прислать, со вчерашнего не евши…
Когда захлопнулась дверь, он завыл, гремя цепью, причитывая дурным голосом…
13
Стрелецкие пятидесятники Кузьма Чермный, Никита Гладкий и Обросим Петров из сил выбивались, мутили стрелецкие слободы. Входили в избы, зло рвя дверь: «Что, мол, вы тут – с бабами спите, а всем скоро головы пооторвут…» Страшно кричали на съезжем дворе: «Дегтем отметим боярские дворы и торговых людей лавки, будем их грабить, а рухлядь сносить в дуваны… Нынче опять – воля…» На базарных площадях кидали подметные письма и тут же, яростно матерясь, читали их народу…
Но стрельцы, как сырые дрова, шипели, не загорались – не занималось зарево бунта. Да и боялись: «Гляди, сколько на Москве подлого народу, ударь в набат, – все разнесут, свое добро не отобьешь…»
Однажды у Мясницких Ворот рано поутру нашли четырех караульных стрельцов – без памяти, проломаны головы, порублены суставы. Приволокли их в Стремянный полк, в съезжую избу. Послали за Федором Левонтьевичем Шакловитым, и при нем они рассказали:
«Стоим у ворот на карауле, боже упаси, не выпивши. А время – заря… Вдруг с пустыря налетают верхоконные и, здорово живешь, начинают нас бить обухами, чеканами, кистенями… Злее всех бил один, толстый, в белом атласном кафтане, в боярской шапке. Те уж его унимали: „Полно-де бить, Лев Кириллович, убьешь до смерти…“ А он кричит: „Не то еще будет, заплачу проклятым стрельцам за моих братьев“».
Шакловитый, усмехаясь, слушал. Осматривал раны. Взяв в руки отрубленный палец, являл его с крыльца сторонним людям и стрельцам. «Да, – говорил, – видно, будут и вас скоро таскать за ноги…»
Чудно. Не верилось, чтобы вдруг Лев Кириллович стал так баловать. А уж Гладкий, Петров и Чермный разносили по слободам, что Лев Кириллович с товарищами ездят по ночам, приглядываются, – узнают, кто семь лет назад воровал в Кремле, и того бьют до смерти… «Конечно, – отвечали стрельцы смирно, – за воровство-то по голове не гладют…»
Прошло дня три, и опять у Покровских Ворот те же верхоконные с толстым боярином наскочили на заставу, били чеканами, плетями, саблями, поранили многих… Кое-где в полках ударили набат, но стрельцы вконец испугались, не вышли… По ночам с караулов стали убегать. Требовали, чтобы в наряд посылали их не менее сотни и с пушкой… Будто с глазу – совсем осмирнели стрельцы…
А потом пошел слух, что этих верхоконных озорников кое-кого уже признали: Степку Одоевского, Мишку Тыртова, что жил у него в любовниках, Петра Андреевича Толстого, а тот, в белом кафтане, будто бы даже был и не боярин, а подьячий Матвейка Шошин, близкий человек царевны. Руками разводили, – чего же они добиваются этим озорством?
Нехорошо было на Москве, тревожно. Каждую ночь в Кремль посылали наряд человек по пятисот. Возвращались оттуда пьяные. Ждали пожаров. Рассказывали, будто изготовлены хитрого устройства ручные гранаты и Никита Гладкий тайно возил их в Преображенское, подбросил на дороге, где царю Петру идти, но только они не взорвались. Все ждали чего-то, затаились.
В Преображенском с приездом Петра не переставая стреляли пушки. На дорогах стояли за рогатками бритые солдаты с бабьими волосами, в шляпах, в зеленых кафтанцах. Несколько раз бродящий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское громить амбары, но, не доходя Яузы, повсюду натыкались на солдат, и те грозили стрелять. Всем надоело – скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал: Софья ли Петра, Петр ли Софью… Лишь бы что-нибудь утвердилось…
14
Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. На каждом шагу останавливали, он отвечал: «Стольник царя Петра, с царским указом…» На Лубянской площади свет костров озарял приземистую башню, облупленные зубчатые стены, уходящие в темноту к Неглинной. Чернее казалось небо в августовских звездах, гуще древесные заросли за тынами и заборами кругом площади. Поблескивали кресты низеньких церковок. Множество торговых палаток были безлюдны за поздним временем. Направо, у длинной избы Стремянного полка, сидели люди с секирами.
Волкову было приказано (посылался за пустым делом в Кремль) осмотреть, что делается в городе. Приказал Борис Алексеевич Голицын, – он дневал и ночевал теперь в Преображенском. Сонное житье там кончилось. Петр прискакал с Переяславского озера как подмененный. О прежних забавах и не заикнуться. На Казанскую, вернувшись домой, он так бесновался, – едва отпоили с уголька… Ближними теперь к нему были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно, запершись с ним, шептались, – и Петр их слушал. Потешным войскам прибавили кормовых, выдали новые кушаки и рукавицы, – деньги на это заняли на Кукуе. Без десятка вооруженных стольников Петр не выходил ни на двор, ни в поле. И все будто озирался через плечо, будто не доверял, в каждого вонзался взором. Сегодня, когда Волков садился на коня, Петр крикнул в окошко:
– Софья будет спрашивать про меня, – молчи… На дыбу поднимут, – молчи…
Оглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцой… «Стой, стой!» – страшно закричали из темноты. Наперерез бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. «Куда ты, тудыть…» – схватил лошадь под уздцы…
– Но-но, постерегись, я царский стольник…
Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро… «Кто таков?..» – «Стольник?..» – «Его нам и надо…» – «Сам залетел…» Окружили, повели к избе. Там при свете костра Волков признал в рослом стрельце Овсея Ржова. Поджался, – дело плохо. Овсей, – не выпуская узды:
– Эй, кто резвый, сбегайте, поищите Никиту Гладкова…
Двое нехотя пошли. Стрельцы поднимались от костра, с завалины съезжей избы, откидывая рогожи, вылезали из телег. Собралось их около полусотни. Стояли не шумно, будто это дело их не касалось. Волков осмелел:
– Нехорошо поступаете, стрельцы… По две головы, что ли, у вас?.. Я везу царский указ – хватаете: это воровство, измена…