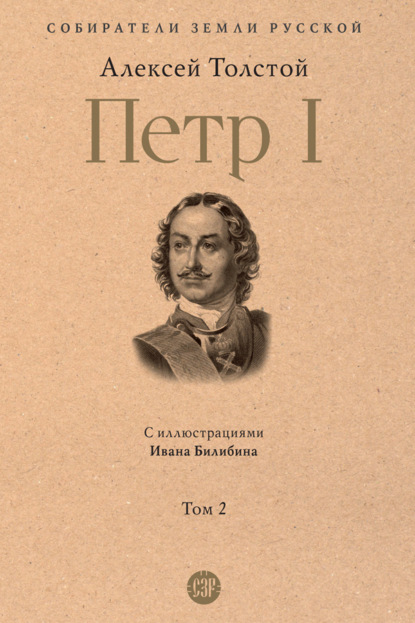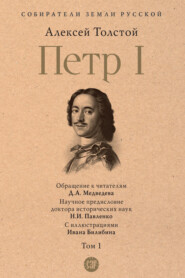По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петр I. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О чем лай?
– Господин поручик, против президентской грамоты ключарь Феодосий и воевода лают непотребно и кукиш показывают, и грудь мне рвали, и грозились сжечь…
У Алешки глаза стали круглеть, строго выкатываться, – совсем как у Петра Алексеевича. Оглянул монаха, воеводу (упершегося руками в лавку, чтобы встать). Постучал тростью и – вскочившему солдату:
– Под стражу обоих…
2
Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс: «Удивительно! Откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову, Анхен вся – в покойного Монса».
Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр.
«Мое сердечко, – не раз говорила ему Анхен с нежным упреком, – вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды… Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель, там – я узнала – можно по доброй цене купить коров, дающих два ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки…»
Мыза была поставлена в березовой роще на дареной землице, идущей клином от ворот заднего двора, мимо ручья Кукуя, до Яузы. Здесь стояли: небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, рига, амбары. На косогоре у реки паслись пегие тучные коровы, – каждую звали поименно в честь греческих богинь, – тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли иноземные овощи и картофель.
Чуть свет Анхен, в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку. Была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Настало время рубить капусту. Таких кочнов не видали на огороде и у самого пастора Штрумпфа. Немцы приходили удивляться: такой кочан или такую репу можно было послать в Гамбург, в кунсткамеру. Шутили: «Наверно, Анхен знает какую-то молитву, что так пышно на этой недавней пустоши произрастают плоды земли».
С песнями русские девки рубили капусту в новом липовом корыте. Анхен брала девок самых здоровых и веселых из деревни Меньшикова или адмирала Головина (чьи новые дворы и палаты стояли неподалеку от Немецкой слободы). Стучали тяпки, от румяных девок пахло свежими кочерыжками, на траве, там, где падала длинная тень от сарая, еще лежал иней, снежные гуси важно шли из птичника на вырытое озерцо. Над острой крышей мызы поднимался дымок в осеннюю синеву. Через подметенный двор два опрятных мужика-пекаря несли корзину со свежевыпеченными калачами.
Анхен была счастлива, – постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой: ни дня покою, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки, или – хочешь не хочешь – наряжайся, скачи на ассамблею – отбивать каблуки.
Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день – обжорство, пляс. Но всего более огорчало Анну Ивановну сумасбродство самого Питера: он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всякого добра, – болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор.
Анхен однажды осторожно попросила Петра: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня всякий раз о приезде». Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему.
Солнце поднялось над осыпавшейся желтизной берез. Девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни, – их, за две недели перед тем как резать, откармливали орехами; Анхен сама каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе; посмотрела, как моют мохноногим курам ноги, – это нужно было делать каждое утро; в овчарнике брала на руки ягнят, целовала их в кудрявые лобики. Потом с неохотой вернулась домой. Так и есть, – на улице стояла карета. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:
– Господин саксонский посланник Кенигсек. Ну, это было ничего… Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке – переодеться.
* * *
Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке – табакерка, правая – свободна для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сем: о забавных приключениях, о женщинах, о политике, о своем повелителе – курфюрсте саксонском и польском короле Августе. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках, беспечно-наглые, водянистые глаза ласкали Анхен. Она сидела напротив (у камина, где разгорались дрова), прямая, – в жестком корсаже, – округло уронив руки ладонями вверх. Потупясь, слушала, уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.
Господин посланник рассказывал:
– …Ему нельзя не поклоняться. Он красив, любезен, смел… Король Август – божество, принявшее человеческий облик… Он неутомим в своих страстях и развлечениях. Ему надоедает Варшава, – он мчится в Краков, по пути охотится на диких свиней, роскошно пирует в замках у магнатов или ночью на сеновале растерянной простолюдинке дарит поцелуй Феба. Он приказывает выписать себе подорожную на имя кавалера Винтера и под видом искателя приключений пересекает Европу и появляется в Париже. Этой шпагой я не раз отражал удары, направленные в его грудь, в ночных драках на перекрестках парижских улиц. Мы скачем в Версаль на ночной праздник, король Август одет странствующим офицером. О, Версаль! О, вы должны увидеть этот земной рай, фрейлен Монс. Огромные окна освещены миллионами свечей, по фасаду переливаются огни плошек. На террасе вдоль боскетов гуляют дамы и кавалеры. На деревах, как райские плоды, – китайские фонарики. За озером взлетают ракеты, их искры опадают в воду, где на барках музыка арф и виол. Плещут фонтаны, летают ночные бабочки. Мраморные статуи сквозь листву кажутся ожившими божествами. Христианнейший король Людовик – в кресле. Тень от парика скрывает его тучное лицо, но все же мне удалось увидеть надменный профиль – с выдвинутой нижней губой и всему свету известной полоской усиков. О его кресло облокотилась дама в черном домино с опущенным на глаза капюшоном. Это была мадам де Ментенон. По правую руку сидел на стуле Филипп Анжуйский – будущий король Испании, его внук, подавленный меланхолией. Все вокруг, тысячи лиц в полумасках, дворец, весь парк, казалось, были озарены золотом славы…
Пальчики Анхен трепетали, округлости груди поднялись из тесноты корсажа.
– Ах, нельзя поверить, что это – не сон… Но кто это госпожа Ментенон, которая стояла за стулом короля?
– Его фаворитка… Женщина, перед которой трепещут министры и посланники… Мой повелитель, король Август, прошел несколько раз мимо мадам Ментенон и был замечен ею…
– Господин посланник, почему король Людовик не женится на мадам Ментенон?
Кенигсек несколько изумился, на минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхен ниже опустила голову, в уголке губ легла складочка.
– О, фрейлен Монс… Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева – это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке, потому что жизнь – это политика, а политика – это золото и слава. Король задергивает ночью полог постели не у королевы – у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке… (У Анхен слабый румянец пополз к щекам. Посланник ближе придвинулся надушенным париком.) На горячей подушке поверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории.
– Господин посланник, – Анхен подняла влажно-синие глаза, – дороже всего знать, что счастье – долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности… Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один бог… Я плыву на роскошной, но на утлой ладье…
Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка…
– Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. – Кенигсек взял ее за локоть, нежно сжал. – Вам некому поверять тайн… Поверяйте их мне… С восторгом отдаю вам себя… Весь мой опыт… На вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме справляется о «нимфе кукуйского ручья»…
– В каком смысле вы себя предлагаете, не понимаю вас.
Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам… Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.
– Не знаю, должна ли я даже слушать вас.
Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. На подоконнике, между геранями, в золоченой клетке нахохлился на помрачневший день ученый перепел – подарок Питера. Анхен силилась собраться с мыслями, но потому ли, что Кенигсек, не шевелясь, глядел ей в спину, – тревожно стучало сердце… «Фу, глупость! С чего бы вдруг?» Было страшно обернуться. И хорошо, что не обернулась: у Кенигсека блестели глаза, будто он только сейчас разглядел эту девушку… Над пышными юбками – тонкий стан, молочной нежности плечи, пепельные, высоко поднятые волосы, затылок для поцелуев…
Все же он не терял рассудка: «Чуть побольше остроты ума и честолюбия у этой нимфы, – с ней можно делать историю».
Анхен вдруг отступила от окна, бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кенигсеке:
– Царь!
Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка, жмурясь от пыли, вылез Петр. Вслед подъехала крытая кожаная колымага. Он что-то крикнул туда и пошел к дому. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали.
* * *
Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, – рослого, со злым и надменным лицом, – взяв за плечи, тряхнул, похлопал:
– Здесь вы у меня дома, герр Иоганн Паткуль. Будем обедать…
Петр был трезв и очень весел. Вытащил из-за красного обшлага парик:
– Возьми гребень, расчеши, Аннушка. За столом буду в волосах, как ты велишь… Нарочно за ним солдата посылал. – И – другому гостю – генералу Карловичу (с лилово-багровыми, налитыми щеками): – Какой ни надень парик, – за королем Августом не угнаться: зело пышен и превеликолепен… А мы – в кузнице да на конюшне…
Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кенигсеку:
– Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник…
– Ваше величество, – Кенигсек повел шляпой, пятясь и садясь на колено, – смертных не судят, цветы и голубей приносящих на алтарь Венус…
Покуда Петр мылся и чистился, Анна Ивановна делала политес: взяла с подноса по рюмке тминной водки, поднесла гостям, спросила каждого о здоровье и – «давно ли изволили прибыть в Москву и не терпите ли какой нужды?». Вспоминая, что ей говорил Кенигсек, выставила тупой кончик туфельки, раскинула юбки по сторонам стула:
– Приезжим из Европы у нас первое время скучно бывает. Но вот скоро, бог даст, с турками замиримся – велим всем носить венгерское и немецкое платье, улицы будем мостить камнем, разбойников из Москвы выведем.
Иоганн Паткуль отвечал ей ледяным голосом, не разжимая тонких губ. В Москву он приехал с неделю, из Риги. Остановился не на посольском дворе, а в доме вице-адмирала Корнелия Крейса, вместе с генерал-майором Карловичем, прибывшим несколько ранее из Варшавы от короля Августа. Нужды они покуда никакой не терпят. Москва действительно не мощена и пыльна, и народ одет худо.
– Я успел заметить, – Паткуль с усмешкой взглянул на Карловича, слегка свистевшего горлом от полнокровия и тесноты военного кафтана, перепоясанного по тучному животу широким шарфом, – я заметил особенный способ, каким московская чернь наживает несколько копеек себе на водку. Когда что-нибудь купишь у него и требуешь сдачи, он намеренно обсчитывает в свою пользу и просит проверить. Пересчитав, говоришь ему, что счет не верен. Он божится, будто именно я обсчитался, снова начинает считать сдачу и крестится на церковные главы, что счет верен. Я второй и третий раз пересчитываю, и он спорит и опять считает сам. И так он проделывает раз десять сряду, покуда тебе не надоест и ты не отойдешь, махнув рукой на пропажу.
– Нужно приказывать своему холопу брать такого человека и тащить в земскую избу, там его хорошенько отколотят батогами, – с твердостью сказала Анна Ивановна.
– Господин поручик, против президентской грамоты ключарь Феодосий и воевода лают непотребно и кукиш показывают, и грудь мне рвали, и грозились сжечь…
У Алешки глаза стали круглеть, строго выкатываться, – совсем как у Петра Алексеевича. Оглянул монаха, воеводу (упершегося руками в лавку, чтобы встать). Постучал тростью и – вскочившему солдату:
– Под стражу обоих…
2
Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс: «Удивительно! Откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову, Анхен вся – в покойного Монса».
Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр.
«Мое сердечко, – не раз говорила ему Анхен с нежным упреком, – вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды… Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель, там – я узнала – можно по доброй цене купить коров, дающих два ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки…»
Мыза была поставлена в березовой роще на дареной землице, идущей клином от ворот заднего двора, мимо ручья Кукуя, до Яузы. Здесь стояли: небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, рига, амбары. На косогоре у реки паслись пегие тучные коровы, – каждую звали поименно в честь греческих богинь, – тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли иноземные овощи и картофель.
Чуть свет Анхен, в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку. Была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Настало время рубить капусту. Таких кочнов не видали на огороде и у самого пастора Штрумпфа. Немцы приходили удивляться: такой кочан или такую репу можно было послать в Гамбург, в кунсткамеру. Шутили: «Наверно, Анхен знает какую-то молитву, что так пышно на этой недавней пустоши произрастают плоды земли».
С песнями русские девки рубили капусту в новом липовом корыте. Анхен брала девок самых здоровых и веселых из деревни Меньшикова или адмирала Головина (чьи новые дворы и палаты стояли неподалеку от Немецкой слободы). Стучали тяпки, от румяных девок пахло свежими кочерыжками, на траве, там, где падала длинная тень от сарая, еще лежал иней, снежные гуси важно шли из птичника на вырытое озерцо. Над острой крышей мызы поднимался дымок в осеннюю синеву. Через подметенный двор два опрятных мужика-пекаря несли корзину со свежевыпеченными калачами.
Анхен была счастлива, – постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой: ни дня покою, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки, или – хочешь не хочешь – наряжайся, скачи на ассамблею – отбивать каблуки.
Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день – обжорство, пляс. Но всего более огорчало Анну Ивановну сумасбродство самого Питера: он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всякого добра, – болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор.
Анхен однажды осторожно попросила Петра: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня всякий раз о приезде». Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему.
Солнце поднялось над осыпавшейся желтизной берез. Девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни, – их, за две недели перед тем как резать, откармливали орехами; Анхен сама каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе; посмотрела, как моют мохноногим курам ноги, – это нужно было делать каждое утро; в овчарнике брала на руки ягнят, целовала их в кудрявые лобики. Потом с неохотой вернулась домой. Так и есть, – на улице стояла карета. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:
– Господин саксонский посланник Кенигсек. Ну, это было ничего… Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке – переодеться.
* * *
Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке – табакерка, правая – свободна для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сем: о забавных приключениях, о женщинах, о политике, о своем повелителе – курфюрсте саксонском и польском короле Августе. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках, беспечно-наглые, водянистые глаза ласкали Анхен. Она сидела напротив (у камина, где разгорались дрова), прямая, – в жестком корсаже, – округло уронив руки ладонями вверх. Потупясь, слушала, уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.
Господин посланник рассказывал:
– …Ему нельзя не поклоняться. Он красив, любезен, смел… Король Август – божество, принявшее человеческий облик… Он неутомим в своих страстях и развлечениях. Ему надоедает Варшава, – он мчится в Краков, по пути охотится на диких свиней, роскошно пирует в замках у магнатов или ночью на сеновале растерянной простолюдинке дарит поцелуй Феба. Он приказывает выписать себе подорожную на имя кавалера Винтера и под видом искателя приключений пересекает Европу и появляется в Париже. Этой шпагой я не раз отражал удары, направленные в его грудь, в ночных драках на перекрестках парижских улиц. Мы скачем в Версаль на ночной праздник, король Август одет странствующим офицером. О, Версаль! О, вы должны увидеть этот земной рай, фрейлен Монс. Огромные окна освещены миллионами свечей, по фасаду переливаются огни плошек. На террасе вдоль боскетов гуляют дамы и кавалеры. На деревах, как райские плоды, – китайские фонарики. За озером взлетают ракеты, их искры опадают в воду, где на барках музыка арф и виол. Плещут фонтаны, летают ночные бабочки. Мраморные статуи сквозь листву кажутся ожившими божествами. Христианнейший король Людовик – в кресле. Тень от парика скрывает его тучное лицо, но все же мне удалось увидеть надменный профиль – с выдвинутой нижней губой и всему свету известной полоской усиков. О его кресло облокотилась дама в черном домино с опущенным на глаза капюшоном. Это была мадам де Ментенон. По правую руку сидел на стуле Филипп Анжуйский – будущий король Испании, его внук, подавленный меланхолией. Все вокруг, тысячи лиц в полумасках, дворец, весь парк, казалось, были озарены золотом славы…
Пальчики Анхен трепетали, округлости груди поднялись из тесноты корсажа.
– Ах, нельзя поверить, что это – не сон… Но кто это госпожа Ментенон, которая стояла за стулом короля?
– Его фаворитка… Женщина, перед которой трепещут министры и посланники… Мой повелитель, король Август, прошел несколько раз мимо мадам Ментенон и был замечен ею…
– Господин посланник, почему король Людовик не женится на мадам Ментенон?
Кенигсек несколько изумился, на минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхен ниже опустила голову, в уголке губ легла складочка.
– О, фрейлен Монс… Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева – это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке, потому что жизнь – это политика, а политика – это золото и слава. Король задергивает ночью полог постели не у королевы – у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке… (У Анхен слабый румянец пополз к щекам. Посланник ближе придвинулся надушенным париком.) На горячей подушке поверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории.
– Господин посланник, – Анхен подняла влажно-синие глаза, – дороже всего знать, что счастье – долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности… Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один бог… Я плыву на роскошной, но на утлой ладье…
Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка…
– Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. – Кенигсек взял ее за локоть, нежно сжал. – Вам некому поверять тайн… Поверяйте их мне… С восторгом отдаю вам себя… Весь мой опыт… На вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме справляется о «нимфе кукуйского ручья»…
– В каком смысле вы себя предлагаете, не понимаю вас.
Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам… Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.
– Не знаю, должна ли я даже слушать вас.
Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. На подоконнике, между геранями, в золоченой клетке нахохлился на помрачневший день ученый перепел – подарок Питера. Анхен силилась собраться с мыслями, но потому ли, что Кенигсек, не шевелясь, глядел ей в спину, – тревожно стучало сердце… «Фу, глупость! С чего бы вдруг?» Было страшно обернуться. И хорошо, что не обернулась: у Кенигсека блестели глаза, будто он только сейчас разглядел эту девушку… Над пышными юбками – тонкий стан, молочной нежности плечи, пепельные, высоко поднятые волосы, затылок для поцелуев…
Все же он не терял рассудка: «Чуть побольше остроты ума и честолюбия у этой нимфы, – с ней можно делать историю».
Анхен вдруг отступила от окна, бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кенигсеке:
– Царь!
Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка, жмурясь от пыли, вылез Петр. Вслед подъехала крытая кожаная колымага. Он что-то крикнул туда и пошел к дому. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали.
* * *
Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, – рослого, со злым и надменным лицом, – взяв за плечи, тряхнул, похлопал:
– Здесь вы у меня дома, герр Иоганн Паткуль. Будем обедать…
Петр был трезв и очень весел. Вытащил из-за красного обшлага парик:
– Возьми гребень, расчеши, Аннушка. За столом буду в волосах, как ты велишь… Нарочно за ним солдата посылал. – И – другому гостю – генералу Карловичу (с лилово-багровыми, налитыми щеками): – Какой ни надень парик, – за королем Августом не угнаться: зело пышен и превеликолепен… А мы – в кузнице да на конюшне…
Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кенигсеку:
– Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник…
– Ваше величество, – Кенигсек повел шляпой, пятясь и садясь на колено, – смертных не судят, цветы и голубей приносящих на алтарь Венус…
Покуда Петр мылся и чистился, Анна Ивановна делала политес: взяла с подноса по рюмке тминной водки, поднесла гостям, спросила каждого о здоровье и – «давно ли изволили прибыть в Москву и не терпите ли какой нужды?». Вспоминая, что ей говорил Кенигсек, выставила тупой кончик туфельки, раскинула юбки по сторонам стула:
– Приезжим из Европы у нас первое время скучно бывает. Но вот скоро, бог даст, с турками замиримся – велим всем носить венгерское и немецкое платье, улицы будем мостить камнем, разбойников из Москвы выведем.
Иоганн Паткуль отвечал ей ледяным голосом, не разжимая тонких губ. В Москву он приехал с неделю, из Риги. Остановился не на посольском дворе, а в доме вице-адмирала Корнелия Крейса, вместе с генерал-майором Карловичем, прибывшим несколько ранее из Варшавы от короля Августа. Нужды они покуда никакой не терпят. Москва действительно не мощена и пыльна, и народ одет худо.
– Я успел заметить, – Паткуль с усмешкой взглянул на Карловича, слегка свистевшего горлом от полнокровия и тесноты военного кафтана, перепоясанного по тучному животу широким шарфом, – я заметил особенный способ, каким московская чернь наживает несколько копеек себе на водку. Когда что-нибудь купишь у него и требуешь сдачи, он намеренно обсчитывает в свою пользу и просит проверить. Пересчитав, говоришь ему, что счет не верен. Он божится, будто именно я обсчитался, снова начинает считать сдачу и крестится на церковные главы, что счет верен. Я второй и третий раз пересчитываю, и он спорит и опять считает сам. И так он проделывает раз десять сряду, покуда тебе не надоест и ты не отойдешь, махнув рукой на пропажу.
– Нужно приказывать своему холопу брать такого человека и тащить в земскую избу, там его хорошенько отколотят батогами, – с твердостью сказала Анна Ивановна.