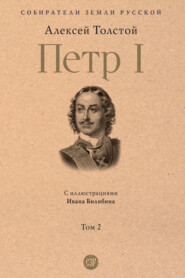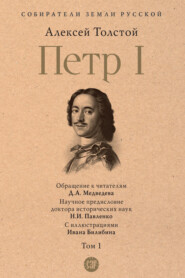По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петр Первый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Беда какая-нибудь, государыня?..
Этой зимой Софья тайно вытравила плод. Пополневшее лицо ее, с сильными мускулами с боков рта, не играло уже прежним румянцем, – заботы, думы, тревоги легли на нем брезгливым выражением. Одевалась она пышно, все еще по-девичьи, но повадка ее была женская, дородная, уверенная. Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки и за последнее время вместо грешного и стыдного названия – любовник – нашлось иноземное приличное слово – талант, – все же отравно, нехорошо было, без закона, не венчанной, не крученной, – отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело. Вот по этой бы весне со всей женской силой и сладкой мукой родила бы она… Люди заставили травить плод… Да и любовь ее к Василию Васильевичу была непокойная, не в меру лет: хорошо так любить семнадцатилетней девчонке, – с вечной тревогой, прячась, думая неотстанно, горя по ночам в постели. А иной раз и ненависть клубком подпирала горло, – ведь от него была вся мука, от него был затравленный плод… А ему – хоть бы что: утерся да и в сторону…
Сидя в кровати, – широкая, с недостающими до полу ногами, горяче-влажная под тяжелым платьем, Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.
– Смешно вырядился, – проговорила она, – что же это на тебе – французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье… Смеяться будут… (Она отвернулась, подавила вздох.) Да, беда, беда, батюшка мой… Радоваться нам мало чему…
За последнее время Софья все чаще приезжала к нему мрачная, с недоговоренными мыслями. Василий Васильевич знал, что близкие к ней две бабы-шутихи, весь день шныряя по закоулкам дворца, выслушивают боярские речи и шепоты и, как Софье отходить ко сну, докладывают ей обо всем.
– Пустое, государыня, – сказал Василий Васильевич, – мало ли о чем люди болтают, не горюй, брось…
– Бросить? – Она ногтями застучала по столбику кровати, зубы у нее понемногу зло открылись. – А знаешь – о чем в Москве говорят? Править, мол, царством мы слабы… Великих делов от нас не видно…
Василий Васильевич потрогал пальцем усы, пожал плечом. Софья покосилась на него: ох, красив, ох, мука моя… Да – слаб, жилы – женские… В кружева вырядился…
– Так-то, батюшка мой… Книги ты читать горазд и писать горазд, мысли светлые, – знаю сама… А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил: «Читал, мол, мне Василий Васильевич из тетради про смердов, про мужиков, – подивился я: уж здоров ли головкой князюшка-то?» И бояре смеялись…
Как девушка, вспыхнул Василий Васильевич, из-под длинных ресниц метнул лазоревыми глазами.
– Не для их ума писано!
– Да уж какие ни на есть, – умнее слуг нам не дадено… Сама терплю: мне бы вот охота плясать, как польская королева пляшет, или на соколиную охоту выезжать на коне, сидя бочком в длинной юбке. Молчу же… Ничего не могу, – скажут: еретичка. Патриарх и так уже мне руку сует как лопату.
– Живем среди монстров, – прошептал Василий Васильевич.
– Вот что тебе скажу, батюшка… Сними-ка ты кружева, чулочки да надень епанчу походную, возьми в руки сабельку… Покажи великие дела…
– Что?.. Опять разве были разговоры про хана?
– У всех одно сейчас на уме – воевать Крым… Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой – и тогда делай что хочешь. Тогда ты сильнее сильных.
– Пойми, Софья Алексеевна, – нельзя нам воевать… На иное нужны деньги…
– Иное будет после Крыма, – твердо проговорила Софья. – Я уж и грамоту заготовила: быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешая, сударь мой… Вернешься победителем, – кто тогда слово скажет? Перестанем скрываться от стыда… Верю, верю, – Бог нам поможет против хана. – Софья слезла с постели и глядела снизу вверх в его отвернутые глаза. – Вася, я тебе боялась сказать… Знаешь, что еще шепчут? «В Преображенском, мол, сильный царь подрастает… А царевна, мол, только зря трет спиной горностай…» Ты мои думы пожалей… Я нехорошее думаю. – Она схватила в горячие ладони его задрожавшую руку. – Ему уже пятнадцатый годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ – вербовать всех конюхов и сокольничих в потешный. А сабли да мушкеты у них ведь из железа… Вася, спаси меня от греха… В уши мне бормочут, бормочут про Димитрия, про Углич… Чай, грех ведь это? (Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. Софья медленно, жалобно улыбнулась.) И то, я говорю, грех и думать о таких делах… То в старину было… А наберешь ты войско тысяч в двести, пойдешь на Крым. Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего, пусть балуется…
– Нельзя нам воевать! – с горечью воскликнул Василий Васильевич. – Войска доброго нет, денег нет… Великие прожекты! – эх, все попусту! Кому их оценить, кому понять? Господи, хоть бы три, хоть бы два только года без войны…
Он безнадежно махнул кружевной манжетой… Говорить, убеждать, сопротивляться – все равно, – было без пользы.
7
Наталья Кирилловна ругала Никиту Зотова: «Да беги же ты за ним, да найди ты его, – со двора убежал чуть свет, лба не перекрестил, и куска во рту не было…»
Найти Петра не так-то было просто, – разве в роще где-нибудь начнется стрельба, барабанный бой, – значит, там и царь: балуется с потешными. Никиту сколько раз брали в плен, привязывали к дереву, чтобы не надоедал просьбами – идти стоять обедню или слушать приезжего из Москвы боярина. Чтобы Никита не скучал у дерева, Петр приказывал ставить перед ним штоф водки. Так понемногу Зотов стал привыкать к чарочке и уж, бывало, сам просился в плен под березу. Возвращаясь к Наталье Кирилловне сокрушенный, он разводил руками:
– Силов нет, матушка-государыня, не идет сокол-то наш…
Играть Петр был горазд – мог сутки без сна, без еды играть во что ни попало, было б шумно, весело, потешно, – стреляли бы пушки, били барабаны. Потешных солдат из царских конюхов, сокольничих и даже из юношей изящных фамилий было у него теперь человек триста. С ними он ходил походами по деревням и монастырям вокруг Москвы. Иных монахов пугали до полусмерти: в полуденный зной, когда на березе не шелохнется листок, лишь грузно гудят пчелы под липами и одолевает дремота, из лесочка вдруг с бесовскими криками выкатываются какие-то в зеленых кафтанах, видом – не русские, и бум-тарарах – бьют из пушек деревянными ядрами в мирные монастырские стены. И еще страшнее монахам, когда узнавали в длинном, вымазанном в грязи и пороховой копоти, беспокойном вьюноше – самого царя.
Служба в потешном войске была тяжелая – ни доспать, ни доесть. Дождь ли, зной ли несносный, – взбредет царю – иди, шут его знает куда и зачем, пугать добрых людей. Иной раз потешных будили среди ночи: «Приказано обойти неприятеля. Переправляться вплавь через речку…» Некоторые и тонули в речках по ночному времени.
За леность или за нети, – если кто, соскучась без толку шагать по дорогам, сказывался в нетях, хотел бежать домой, – таких били батогами. В последнее время приставили к войску воеводу, или – по-новому – генерала, – Автомона Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзертицию и навел строгие порядки. При нем Петр, вместо беспорядочного баловства, стал не шутя проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским.
Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, – так как был занят по службе в Кремле, – но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как что устроить. Через него взяли на жалованье иноземца, капитана Федора Зоммера, для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Из Пушкарского приказа доставили шестнадцать пушек, и тогда стали учить потешных стрелять чугунными бомбами, – учили строго: Федор Зоммер даром жалованье получать не хотел. Было уже не до потехи. Много побили в полях разного скота и перекалечили народу.
8
Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре. Собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке, – среди постриженных деревьев, – они похлопывали ладонями по столикам:
– Эй, Монс, кружечку пива!
Монс, в вязаном колпаке, в зеленом жилете, выплывал из освещенной двери аустерии, неся по пяти глиняных кружек в каждой руке. Над кружкой – шапка пены. Вечер тих и приятен. Высыпают звезды в русском небе, не столь, правда, яркие, пышные, как в Тюрингии, или Бадене, или Вюртемберге, – но жить можно неплохо и под русскими звездами.
– Монс! Расскажи-ка нам, как у тебя в гостях был царь Петр.
Монс присаживался за стол к доброй компании, отхлебывал из чужой кружки и, подмигнув, рассказывал:
– Царь Петр очень любопытный человек. Он узнал о замечательном музыкальном ящике, который стоит в моей столовой. Отец моей жены купил этот ящик в Нюренберге…
– О да, мы все знаем твой прекрасный ящик, – подтверждали слушатели, взглянув друг на друга и помотав висячими трубками.
– Я немного испугался, когда однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Я не знал, как мне нужно поступать… В таком случае русские становятся на колени. Я не хотел. Но царь сейчас же спросил меня: «Где твой ящик?» Я ответил: «Вот он, ваше помазанное величество». Тогда царь сказал: «Иоганн, не зови меня „ваше помазанное величество“, мне это надоело дома, но зови меня, как будто я твой друг». И Лефорт сказал: «О да, Монс, мы все будем звать его – герр Питер». И мы втроем долго смеялись этой шутке. После этого я позвал мою дочь Анхен и велел ей завести ящик. Обыкновенно мы заводим его только раз в году, в сочельник, потому что это очень ценный ящик. Анхен посмотрела на меня – и я сказал: «Ничего, заводи». И она завела его, – кавалеры и дамы танцевали, и птички пели. Питер удивился и сказал: «Я хочу посмотреть, как он устроен». Я подумал: «Пропал музыкальный ящик». Но Анхен – очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петру, и Лефорт перевел ему по-русски. Анхен сказала: «Ваше величество, я тоже умею петь и танцевать, но, увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, отчего я пою и танцую, – мое бедное сердце, наверно, после этого будет сломано…» Переведя эти слова, Лефорт засмеялся, и я громко засмеялся, и Анхен смеялась, как серебряный колокольчик. Но Питер не смеялся, – он покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхен, будто она была маленькой птичкой. И я подумал: «О, у этого юноши сидит внутри тысяча чертей». Анхен тоже покраснела и убежала со слезами на своих синих глазах…
Монс засопел и отхлебнул из чужой кружки. Он чудно и трогательно умел рассказывать истории. Приятный ночной ветерок шевелил кисточки на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. Раскуривая трубки, посетители говорили, что Бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство. Бородатый и красный, могучего роста кузнец Геррит Кист, голландец, родом из Заандама, сказал:
– Я вижу, – если с умом взяться за дело, – из молодого царя можно извлечь много пользы.
Старый Людвиг Пфефер, часовщик, ответил ему:
– О нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы… Правительница Софья никогда не даст ему царствовать. Она – жестокая и решительная женщина… Теперь она собирает двести тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и десяти пфеннигов…
– Напрасно вы так рассуждаете, Людвиг Пфефер, – ответил ему Монс, – не раз мне рассказывал генерал Теодор фон Зоммер, который недавно был просто – Зоммер… (Монс раскрыл рот и захохотал, и все засмеялись его шутке.) Не раз мне говорил: «Погодите, дайте нам год или два сроку, у царя Петра будет два батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать…» Вот что сказал Зоммер…
– О, это хорошо, – проговорили собеседники и значительно переглянулись…
Такие беседы бывали по вечерам на подметенной площадке перед дверью аустерии Иоганна Монса.
9
В сводчатых палатах Дворцового приказа – жара, духота, – топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах – мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте. Писец Иван Васков перебеляет с листа в книгу:
«…по указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, а к тому делу взято товаров у генерала у Франца Лефорта: две цевки золота, – плачено один рубль, 13 алтын, 2 деньги, да девять дюжин пуговиц по шести алтын дюжина, да к исподнему кафтану – 6 дюжин пуговиц по 2 алтына 4 деньги дюжина, да шелку и полотна на 10 алтын, да накладные волосы – три рубля…»
Дунув на муху, Васков поднял осовелые веки.
– Слышь, Петруха, а «волосы накладные» как писать – с прописной буквы али с малой?
Напротив сидящий подьячий, подумав, ответил:
Этой зимой Софья тайно вытравила плод. Пополневшее лицо ее, с сильными мускулами с боков рта, не играло уже прежним румянцем, – заботы, думы, тревоги легли на нем брезгливым выражением. Одевалась она пышно, все еще по-девичьи, но повадка ее была женская, дородная, уверенная. Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки и за последнее время вместо грешного и стыдного названия – любовник – нашлось иноземное приличное слово – талант, – все же отравно, нехорошо было, без закона, не венчанной, не крученной, – отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело. Вот по этой бы весне со всей женской силой и сладкой мукой родила бы она… Люди заставили травить плод… Да и любовь ее к Василию Васильевичу была непокойная, не в меру лет: хорошо так любить семнадцатилетней девчонке, – с вечной тревогой, прячась, думая неотстанно, горя по ночам в постели. А иной раз и ненависть клубком подпирала горло, – ведь от него была вся мука, от него был затравленный плод… А ему – хоть бы что: утерся да и в сторону…
Сидя в кровати, – широкая, с недостающими до полу ногами, горяче-влажная под тяжелым платьем, Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.
– Смешно вырядился, – проговорила она, – что же это на тебе – французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье… Смеяться будут… (Она отвернулась, подавила вздох.) Да, беда, беда, батюшка мой… Радоваться нам мало чему…
За последнее время Софья все чаще приезжала к нему мрачная, с недоговоренными мыслями. Василий Васильевич знал, что близкие к ней две бабы-шутихи, весь день шныряя по закоулкам дворца, выслушивают боярские речи и шепоты и, как Софье отходить ко сну, докладывают ей обо всем.
– Пустое, государыня, – сказал Василий Васильевич, – мало ли о чем люди болтают, не горюй, брось…
– Бросить? – Она ногтями застучала по столбику кровати, зубы у нее понемногу зло открылись. – А знаешь – о чем в Москве говорят? Править, мол, царством мы слабы… Великих делов от нас не видно…
Василий Васильевич потрогал пальцем усы, пожал плечом. Софья покосилась на него: ох, красив, ох, мука моя… Да – слаб, жилы – женские… В кружева вырядился…
– Так-то, батюшка мой… Книги ты читать горазд и писать горазд, мысли светлые, – знаю сама… А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил: «Читал, мол, мне Василий Васильевич из тетради про смердов, про мужиков, – подивился я: уж здоров ли головкой князюшка-то?» И бояре смеялись…
Как девушка, вспыхнул Василий Васильевич, из-под длинных ресниц метнул лазоревыми глазами.
– Не для их ума писано!
– Да уж какие ни на есть, – умнее слуг нам не дадено… Сама терплю: мне бы вот охота плясать, как польская королева пляшет, или на соколиную охоту выезжать на коне, сидя бочком в длинной юбке. Молчу же… Ничего не могу, – скажут: еретичка. Патриарх и так уже мне руку сует как лопату.
– Живем среди монстров, – прошептал Василий Васильевич.
– Вот что тебе скажу, батюшка… Сними-ка ты кружева, чулочки да надень епанчу походную, возьми в руки сабельку… Покажи великие дела…
– Что?.. Опять разве были разговоры про хана?
– У всех одно сейчас на уме – воевать Крым… Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой – и тогда делай что хочешь. Тогда ты сильнее сильных.
– Пойми, Софья Алексеевна, – нельзя нам воевать… На иное нужны деньги…
– Иное будет после Крыма, – твердо проговорила Софья. – Я уж и грамоту заготовила: быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешая, сударь мой… Вернешься победителем, – кто тогда слово скажет? Перестанем скрываться от стыда… Верю, верю, – Бог нам поможет против хана. – Софья слезла с постели и глядела снизу вверх в его отвернутые глаза. – Вася, я тебе боялась сказать… Знаешь, что еще шепчут? «В Преображенском, мол, сильный царь подрастает… А царевна, мол, только зря трет спиной горностай…» Ты мои думы пожалей… Я нехорошее думаю. – Она схватила в горячие ладони его задрожавшую руку. – Ему уже пятнадцатый годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ – вербовать всех конюхов и сокольничих в потешный. А сабли да мушкеты у них ведь из железа… Вася, спаси меня от греха… В уши мне бормочут, бормочут про Димитрия, про Углич… Чай, грех ведь это? (Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. Софья медленно, жалобно улыбнулась.) И то, я говорю, грех и думать о таких делах… То в старину было… А наберешь ты войско тысяч в двести, пойдешь на Крым. Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего, пусть балуется…
– Нельзя нам воевать! – с горечью воскликнул Василий Васильевич. – Войска доброго нет, денег нет… Великие прожекты! – эх, все попусту! Кому их оценить, кому понять? Господи, хоть бы три, хоть бы два только года без войны…
Он безнадежно махнул кружевной манжетой… Говорить, убеждать, сопротивляться – все равно, – было без пользы.
7
Наталья Кирилловна ругала Никиту Зотова: «Да беги же ты за ним, да найди ты его, – со двора убежал чуть свет, лба не перекрестил, и куска во рту не было…»
Найти Петра не так-то было просто, – разве в роще где-нибудь начнется стрельба, барабанный бой, – значит, там и царь: балуется с потешными. Никиту сколько раз брали в плен, привязывали к дереву, чтобы не надоедал просьбами – идти стоять обедню или слушать приезжего из Москвы боярина. Чтобы Никита не скучал у дерева, Петр приказывал ставить перед ним штоф водки. Так понемногу Зотов стал привыкать к чарочке и уж, бывало, сам просился в плен под березу. Возвращаясь к Наталье Кирилловне сокрушенный, он разводил руками:
– Силов нет, матушка-государыня, не идет сокол-то наш…
Играть Петр был горазд – мог сутки без сна, без еды играть во что ни попало, было б шумно, весело, потешно, – стреляли бы пушки, били барабаны. Потешных солдат из царских конюхов, сокольничих и даже из юношей изящных фамилий было у него теперь человек триста. С ними он ходил походами по деревням и монастырям вокруг Москвы. Иных монахов пугали до полусмерти: в полуденный зной, когда на березе не шелохнется листок, лишь грузно гудят пчелы под липами и одолевает дремота, из лесочка вдруг с бесовскими криками выкатываются какие-то в зеленых кафтанах, видом – не русские, и бум-тарарах – бьют из пушек деревянными ядрами в мирные монастырские стены. И еще страшнее монахам, когда узнавали в длинном, вымазанном в грязи и пороховой копоти, беспокойном вьюноше – самого царя.
Служба в потешном войске была тяжелая – ни доспать, ни доесть. Дождь ли, зной ли несносный, – взбредет царю – иди, шут его знает куда и зачем, пугать добрых людей. Иной раз потешных будили среди ночи: «Приказано обойти неприятеля. Переправляться вплавь через речку…» Некоторые и тонули в речках по ночному времени.
За леность или за нети, – если кто, соскучась без толку шагать по дорогам, сказывался в нетях, хотел бежать домой, – таких били батогами. В последнее время приставили к войску воеводу, или – по-новому – генерала, – Автомона Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзертицию и навел строгие порядки. При нем Петр, вместо беспорядочного баловства, стал не шутя проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским.
Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, – так как был занят по службе в Кремле, – но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как что устроить. Через него взяли на жалованье иноземца, капитана Федора Зоммера, для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Из Пушкарского приказа доставили шестнадцать пушек, и тогда стали учить потешных стрелять чугунными бомбами, – учили строго: Федор Зоммер даром жалованье получать не хотел. Было уже не до потехи. Много побили в полях разного скота и перекалечили народу.
8
Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре. Собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке, – среди постриженных деревьев, – они похлопывали ладонями по столикам:
– Эй, Монс, кружечку пива!
Монс, в вязаном колпаке, в зеленом жилете, выплывал из освещенной двери аустерии, неся по пяти глиняных кружек в каждой руке. Над кружкой – шапка пены. Вечер тих и приятен. Высыпают звезды в русском небе, не столь, правда, яркие, пышные, как в Тюрингии, или Бадене, или Вюртемберге, – но жить можно неплохо и под русскими звездами.
– Монс! Расскажи-ка нам, как у тебя в гостях был царь Петр.
Монс присаживался за стол к доброй компании, отхлебывал из чужой кружки и, подмигнув, рассказывал:
– Царь Петр очень любопытный человек. Он узнал о замечательном музыкальном ящике, который стоит в моей столовой. Отец моей жены купил этот ящик в Нюренберге…
– О да, мы все знаем твой прекрасный ящик, – подтверждали слушатели, взглянув друг на друга и помотав висячими трубками.
– Я немного испугался, когда однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Я не знал, как мне нужно поступать… В таком случае русские становятся на колени. Я не хотел. Но царь сейчас же спросил меня: «Где твой ящик?» Я ответил: «Вот он, ваше помазанное величество». Тогда царь сказал: «Иоганн, не зови меня „ваше помазанное величество“, мне это надоело дома, но зови меня, как будто я твой друг». И Лефорт сказал: «О да, Монс, мы все будем звать его – герр Питер». И мы втроем долго смеялись этой шутке. После этого я позвал мою дочь Анхен и велел ей завести ящик. Обыкновенно мы заводим его только раз в году, в сочельник, потому что это очень ценный ящик. Анхен посмотрела на меня – и я сказал: «Ничего, заводи». И она завела его, – кавалеры и дамы танцевали, и птички пели. Питер удивился и сказал: «Я хочу посмотреть, как он устроен». Я подумал: «Пропал музыкальный ящик». Но Анхен – очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петру, и Лефорт перевел ему по-русски. Анхен сказала: «Ваше величество, я тоже умею петь и танцевать, но, увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, отчего я пою и танцую, – мое бедное сердце, наверно, после этого будет сломано…» Переведя эти слова, Лефорт засмеялся, и я громко засмеялся, и Анхен смеялась, как серебряный колокольчик. Но Питер не смеялся, – он покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхен, будто она была маленькой птичкой. И я подумал: «О, у этого юноши сидит внутри тысяча чертей». Анхен тоже покраснела и убежала со слезами на своих синих глазах…
Монс засопел и отхлебнул из чужой кружки. Он чудно и трогательно умел рассказывать истории. Приятный ночной ветерок шевелил кисточки на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. Раскуривая трубки, посетители говорили, что Бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство. Бородатый и красный, могучего роста кузнец Геррит Кист, голландец, родом из Заандама, сказал:
– Я вижу, – если с умом взяться за дело, – из молодого царя можно извлечь много пользы.
Старый Людвиг Пфефер, часовщик, ответил ему:
– О нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы… Правительница Софья никогда не даст ему царствовать. Она – жестокая и решительная женщина… Теперь она собирает двести тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и десяти пфеннигов…
– Напрасно вы так рассуждаете, Людвиг Пфефер, – ответил ему Монс, – не раз мне рассказывал генерал Теодор фон Зоммер, который недавно был просто – Зоммер… (Монс раскрыл рот и захохотал, и все засмеялись его шутке.) Не раз мне говорил: «Погодите, дайте нам год или два сроку, у царя Петра будет два батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать…» Вот что сказал Зоммер…
– О, это хорошо, – проговорили собеседники и значительно переглянулись…
Такие беседы бывали по вечерам на подметенной площадке перед дверью аустерии Иоганна Монса.
9
В сводчатых палатах Дворцового приказа – жара, духота, – топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах – мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте. Писец Иван Васков перебеляет с листа в книгу:
«…по указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, а к тому делу взято товаров у генерала у Франца Лефорта: две цевки золота, – плачено один рубль, 13 алтын, 2 деньги, да девять дюжин пуговиц по шести алтын дюжина, да к исподнему кафтану – 6 дюжин пуговиц по 2 алтына 4 деньги дюжина, да шелку и полотна на 10 алтын, да накладные волосы – три рубля…»
Дунув на муху, Васков поднял осовелые веки.
– Слышь, Петруха, а «волосы накладные» как писать – с прописной буквы али с малой?
Напротив сидящий подьячий, подумав, ответил: