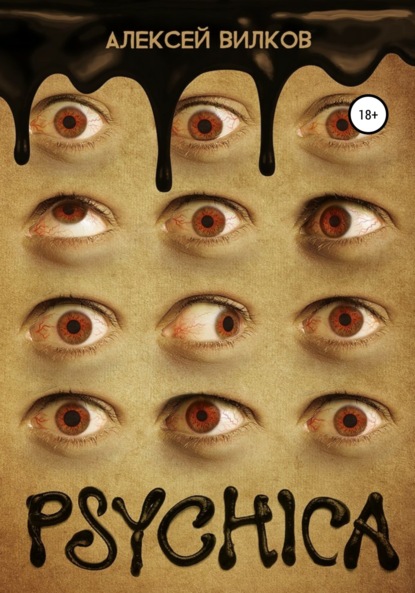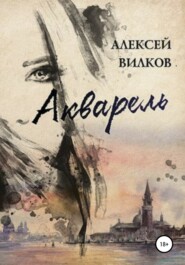По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Psychica
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Извини. Я давно никого не бил, но очень хотел ударить. Навязчивая идея сломать кому-нибудь челюсть.
– Так и бил бы в челюсть?
– Промазал. Темно слишком. Ты спрашиваешь, как я сюда попал? Смутно помню, уже потерял счет времени. Я называю это место концлагерем, потому как другой аналогии не возникло. Здесь заправляют настоящие фашисты. Началась третья мировая война? Мы военнопленные или захваченное гражданское население? Иногда я вижу сны про разрушенный атомным взрывом мир, где мы сидим в подземном бункере и не видим белого света. Здесь есть своя «Зеленая зона», но туда пускают редко, по особым соображениям. Не каждый из нас попадал туда. У меня воспаление мочевого пузыря, и ноют камни в почках, но меня не оперируют, ждут, когда пузырь лопнет или покроется гангреной – наше здоровье их мало интересует. Они следят за нами, подслушивают, подглядывают. Видишь лампочки в верхнем углу? Это камеры. Они постоянно сканируют мои мысли и предугадывают вопросы. Как я попал сюда? Война, плен… Нас держат на дрова, чтобы зимой кремировать в печах…
– Что-то не слышал ничего о войне, – скептически признался Максим, – я собирался искупаться и нырнул в реку, а ваши гуманоиды выловили меня на дне и переправили сюда. Врежь-ка еще в челюсть?
– Давай.
– Нет, дай-ка я?! – вмешался смуглый и без предупреждения вколотил Маликову по губам, разбив их вдребезги.
От удара Максим слетел с кушетки, но тут же поднялся и уже приготовился ответить, но остроносый заслонил обидчика.
– Давайте прекратим ребячество! Если будем драться, нас растащат по одиночным камерам. Там на живот нацепляют десятки проводов и включают ультразвук. Люди слетают с катушек и не возвращаются.
– А ты почему вернулся?
– Бонус за примерное поведение. Полагаю, что ценен для разведки. Меня готовят к особому заданию.
– Корень зла в неправильном мироустройстве. Все беды от недостатка либерализма, – вмешался второй оратор. – Люди превращаются в животных. А вы, значит, ультраконсерватор? Из-за таких, как вы, нас и бросают в тюрьмы.
– Пошутил я, – виновато пояснил Максим, – Я как бы вне политики. Так мы познакомимся или как?
– Стас, – отдал пионерский привет худощавый дрищ, похожий на гипофизарного подростка-переростка. Его атрофированные ладони украшали кривые пальцы с искусанными ногтями.
– Ганс Руйкович, – помпезно представился смуглый, – я чистокровный поляк, но родился в Австрии. Я намеренно сменил имя, и в политической среде известен под именем Никола Бобер. Нашу партию не допускают к всенародному голосованию, поэтому мы вынужденно перешли в подпольное существование. Сразу предупреждаю: мы не сторонники террора. Свобода, равенство и братство – подходящий девиз.
– Где-то я это уже слышал, – почти отошел от наркоза Максим. – Плагиатом занимаетесь.
– Какие выборы, когда на кону вопрос об истреблении человечества? – встрял остроносый. – Нонсенс! После ядерного взрыва не осталось ни одного вменяемого правительства и муниципальных собраний. Езжай в Кукуево и властвуй! В покинутых городах тлеет радиоактивный пепел.
«И я свихнусь с этой дрянной компашкой», – понял Максим, не собираясь обострять диспут, перестав воспринимать их словесный помет.
Оба собеседника пребывали в выдуманных мирах, разобраться в которых по силам лишь изощренному старику с первоклассными ассистентами. После отходняка накатило приятное состояние полудремы, приковав к постели без фиксирующих устройств, словно мозг активировал дополнительную опцию сна. Тело парализовало. Перед взором опустился туман, приказывая лежать неподвижно под гнетом атмосферного столба. Воздух сжался до атомов. Окружающие слились в безликие формы. Так действовали принятые электрические потенциалы.
Episode A
Шел тридцать шестой день служебной командировки.
Я вел врачебную практику по контракту в передвижном госпитале в окрестностях Гудермеса, перебазировавшись из Шатойского района. Мы обосновались в полуразрушенном здании бывшей администрации, где кое-как было налажено водоснабжение, санузел и полевая кухня. Получен приказ разместить тридцать коек в сырых, заплесневых помещениях с протекающими трубами и клопами-мутантами с колкими усиками и хоботками.
Первую неделю меня поражала пугающая тишина, прерывающаяся одиночными выстрелами. Это снайперы, объясняли мне бывалые, убирают солдат по одному. Периодически палили и с нашей стороны, но только не в одиночку, а стройным хором, из калаша или пулемета – так проводились плановые зачистки.
Я заседал в медпункте от рассвета до заката, организовывая квалифицированную помощь раненым, разделив их на привычные категории: транспортабельные, нетранспортабельные, с легкими, средними и тяжелыми повреждениями. Малая часть не доживала до эвакуации в тыл. С непривычки от нагрузок и стресса я на месяц забыл о бывшей жене и сыне, будто их никогда не существовало.
Основные госпитали базировались в районных больницах в Махачкале и Владикавказе. С немого согласия штаба как исключение мы принимали и местное население. Сразу после открытия к нам повалили тетки с детьми, старики и подростки, подорвавшиеся на минах и растяжках. Гораздо чаще им требовалась терапевтическая помощь, но терапевты в штате не водились, только военно-полевые хирурги общего профиля.
Как-то довелось даже принимать роды у семнадцатилетней девчонки. Ее привела ошалелая мать в гремучих слезах, а следом прибежал бешеный муж в фуфайке и сланцах, похожий на переодетого боевика. Его не хотели пускать и тщательно обыскали, а когда увидели, вовсе уложили на землю и чуть не посадили под арест, так как кто-то из собров узнал в нем наемника. Несмотря на плановый характер вмешательства и колоссальное желание помочь роженице, младенец скончался после кесарево сечения по неизвестной причине. Девчонка чудом не отправилась на тот свет. Ее доставили во Владикавказ на вертушке вместе с тяжелоранеными. Узнав о смерти дитя, мать истошно вопила и как зомби бродила вокруг администрации, а отец перенес потерю стойко, меланхолично перебирая жемчужные четки. Когда его спрашивали, не собирается ли он мстить, он гордо отвечал:
– Не мой ребенок! Мой бы выжил. Я ему не отец.
– А чей тогда? – спрашивали офицеры, давая ему прикурить.
– Вернется жена, и спрошу! Не дам ей спуску!
– Ты бы полегче, джигит! – предупреждал младший лейтенант Смирнов. – Ей забота нужна, а ты настроен на взбучку. Натерпелась она от тебя страданий и не выдержала. Ты бы благодарил бога, что она осталась жить.
– Все во власти всевышнего, – поднимал муж ладони кверху.
Затем он пропал, а на неделе произошло нападение на патруль. В ходе перестрелки ликвидировали двух бандитов. На опознании сбежавшего мужа вычислил снайпер, угодив пулей точно в висок.
– Он мне сразу не понравился, – признался боец Петеркин, дергая взад-вперед крупнокалиберной винтовкой. – Глаз наметан. Видел его на крышах. Он наших из-под тишка в сумерках мочил, а днем прикидывался иждивенцем. Хорошо, что баба его пережила. Найдет себе мужика достойней.
Снайпера вели себя пафосно не долго. С первыми боевыми потерями появилась неуверенность и мальчишеская робость, и они наверняка верили в суеверия и исполняли странные ритуалы, считая во сне овец, коих в ближайших аулах становилось все меньше.
Случались окаянные дни, когда привозили много раненых: из жилых окраин, с зеленки, с подбитых бетеэров, с колотыми разрезами в очной схватке. Регулярно приходилось бороться с огнестрелкой, вытаскивать пули и зашивать пробоины, предотвращая перитонит и кровопотерю.
Смертность оставалась низкой, но несовместимые с жизнью ранения косили ребят на повал. Последний месяц привозили много бойцов из Грозного, совсем зеленых срочников, не вкусивших дыма и мяса. Их дробили как оловянных солдатиков. Раненые благодарили небо, что для них война закончилась навсегда. Некоторым ампутировали конечности, но это их волновало мало, как и сгоревшие до костей пальцы.
В памяти сохранился разговор с веселым рядовым Петькой. До дембеля ему оставалось три месяца, он собирался вернуться в Смоленск и втихаря готовил альбом, умещавшийся в кителе.
– Счастье. Есть на земле счастье. Потерять один палец – не беда.
– Отоспишься на мамкиных харчах, – завидовал контуженый сержант.
– Этот палец будет напоминать о войне. Особая метка, моя жертва родине.
– А за кого ты воевал?
– Прежде всего, за себя. Хотел выжить, и баста.
– Вот и мы за себя воюем. Но так воевать тошно, нестерпимо. За идею воевать надо, а какая тут идея? Загасить духа и спастись. Это не идея, а полнейшая провокация.
– Кончай городить брехню не по уставу, – гнусил раненый в бедро майор. – Сейчас рапорт на обоих напишу и привлеку к дисциплине. Да шучу, парни, справедливо базарите. Хлебнули горя! За матерей сражались, чтобы дождались сыновей.
…Погода преподносила сюрпризы. В течение трех недель стояла невыносимая духота и жара, обнажив угрозу холеры. Не боясь подцепить заразу, солдаты пили воду из подземных ключей, напрасно полагая, что она из артезианских впадин, но некоторых счастливчиков скрутило диареей. Я не рисковал и пил кипяток в процедурке.
В одну убийственно долгую смену доставили пятерых солдат, подбитых в упор из гранатомета. Они выглядели как месиво, сипло дышали, стонали и подзывали к себе боевых товарищей. Из изувеченных ртов лилась пена и агония. Мы перевязывали их обгорелую кожу и готовили к операции, догадываясь, что им осталось всего несколько часов. Последнему повезло дождаться рассвета. Их поместили в цинковые гробы и отправили на БМП до аэродрома. Придорожных машин проезжало мало, потому приходилось грузить тела на мимоходную технику.
По нечетным субботам приезжала бронированная махина, когда собирались выкурить снайпера из дома или разбомбить засевшую в подвале банду. Танк проезжал мимо разведгруппы, останавливался около отмеченного здания и отшлепывал пару выстрелов. После в бой пускались отряды специального назначения и десантники, зачищая разрушенные постройки. Огонь вели из танковых пулеметов и гранатометов. Тяжелая техника состояла из БТР и БМП. В небе кружили Ми -24 и Су-25.
Обычно на месте зачистки находили позорно мало боевиков. Каким-то образом основной части удавалось скрыться. Очухавшись, они постреливали в спины нашим героям. Раненых боевиков тоже доставляли к нам. Для них выделялось отдельное подвальное помещение среди плесени и бетона, чтобы обезопасить своих бойцов от лишних кровопролитий. Из-за нехватки персонала боевики гибли без должной помощи, на них не переводили много лекарств, а кого спасали, тут же отправляли на допрос и переводили в тюрьмы Моздока или в Ставрополье, чтобы выбить признательные показания или завербовать для спецопераций.
В разрушенных замаскированных складах находили коллекционное оружие от штурмовых винтовок «Хеклер», раритетных маузеров и наганов, до «Вальтер ПП» и «М16», не считая мелочи типа противопехотных мин, растяжек, фугасов и «стингеров». Как столь массивные и дорогие боеприпасы попадали к головорезам, никто не объяснял, но мы и не спрашивали, сдерживая потаенное любопытство.
Случались и короткие периоды отдыха, когда мы маялись от безделья и пинали балду. В клетчатой тетради я вел непутевые заметки, а мои подчиненные фельдшера много курили и меланхолично перебирали четки, переняв дурную привычку у местных разбойников. После обеда к нам забегала шумная детвора, прося поиграть скальпелем, или пыталась купить спирта. Забавы ради мы обменивали спирт на журналы и прочую дребедень. Фельдшера осознанно спаивали молодежь, и когда подростки пьянели, бойцы приставали к ним с расспросами. Мальчишки признавались, что в ближайшем сарае прячется боевик, а в дальнем хлеву укрывается от возмездия целая группа наемников. Тогда на точку направлялись карательные отряды, но редко находили мишени. Спецы возвращались злые, ловили лгунов и надирали им уши, чтобы отучить от вранья. Пацаны клялись матерями, что говорили правду, но мы-то понимали, что среди них тоже есть лазутчики и диверсанты, предупреждавшие своих о планируемых операциях федеральных сил.
– Ты вообще за кого, Аслан? – спрашивали мы у юркого пацана, привязавшегося к медпункту в качестве санитара на сугубо добровольных началах.