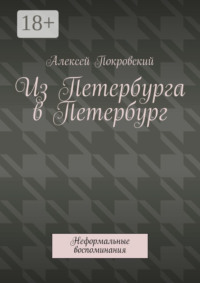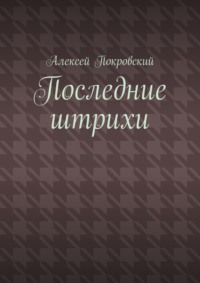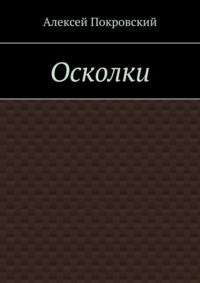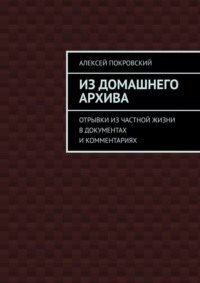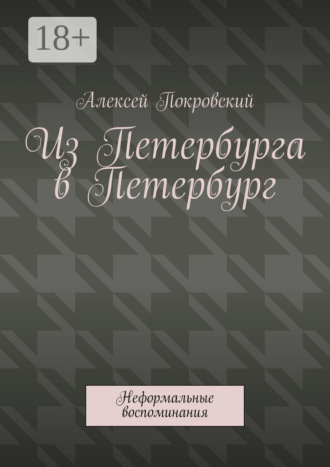
Из Петербурга в Петербург. Неформальные воспоминания
Тогда мама купила мне гитару и самоучитель. Я попытался научиться играть самостоятельно, но через некоторое время бросил.
А во Дворец пионеров я ходил в радиотехнический кружок.
В свободное от учебы время Инга, Алек, я и наши одноклассники собирались либо дома у Инги и Алека или в саду, и развлекали себя как могли: играли в настольные игры, шарады, прятки, чижик, лапту, штандер. С Алеком мы мастерили луки и стреляли в цель, делали детекторные приемники. В один прекрасный день у Маслаковцев оказался красивый профессиональный, еще дореволюционный лук. Играть с ним было одно наслаждение!
Я знал множество фокусов и любил показывать их на наших детских праздниках. А когда учился в младших классах и часто оставался один, то развлекал себя сам. Так, я сделал из картона театр, вырезал фигурки и ставил спектакли, в которых сам был и режиссером, и актером, и зрителем.
В какой-то момент у меня появился котенок. Чья это была инициатива и где я его взял, не помню. Но прожил он у меня недолго. Вышел из прачечной погулять – и его загрызли собаки. Еще у меня жил как-то ежик. По ночам он очень топал и шуршал газетами. Не помню, сколько времени он у меня прожил. Больше животных в детстве я не заводил.
В 50-е годы очень была развита шпиономания. Благодаря пропаганде и фильмам типа «Ошибка инженера Кочина», «Партийный билет» и т. д. мы считали, что наше общество наводнено шпионами, которые передают западной разведке наши секреты. Их надо выискивать и обезвреживать. И вот мы с Алеком ходили по улицам и внимательно следили за подозрительными личностями, шли за ними по пятам. Но так ни одного шпиона не разоблачили. Хорошо, хоть это для нас было только игрой, которая быстро закончилась!
Оказывается, не мы одни этим занимались. В книге Л. Улицкой «Детство 45—53: а завтра будет счастье» есть воспоминание Альбины Огородниковой-Ястребовой на эту тему:
После войны было много разговоров, публикаций в газетах и передач по радио о врагах Советского Союза, шпионах, скрывающихся среди нас. «Люди, будьте бдительны: враг есть и среди нас!» – слышали и читали мы с утра до вечера. Дети по своей природе очень впечатлительны, поэтому мы были под гипнозом этой пропаганды.
Моя подруга Нина Соболева и я мечтали встретить шпиона, выследить его и раскрыть его преступные планы. Часто после школы мы бежали на базар, очень близко от школы, внимательно вглядывались в многочисленных нищих – ведь они могли скрывать под своими лохмотьями радиопередатчик!
Однажды нам повезло. Неподалеку от школы мы увидели Его: со стороны базара шел нищий. Разноцветные вязочки, тряпочки болтались на его поясе, веревки; рваная одежда была надета одна на другую – из-за этого он казался большим, толстым. На голове красовалась шляпа, надетая на зимнюю шапку, из-под нее свисал на шею цветной лоскут… Мы с Ниной радостно взглянули друг на друга: шпион! Уж мы не упустим его; наверняка в его лохмотьях спрятан передатчик, по которому он, улучив момент, переговаривается с американцами! Пропустив его вперед, прячась за деревьями, за углами домов, мы двинулись следом, боясь пропустить момент, когда он начнет доставать свой аппарат и передавать азбукой Морзе свои донесения. Азбуку Морзе мы немного изучали в кружке в школе, поэтому сразу бы догадались, что к чему. Очень мы не хотели, чтобы шпион передавал сведения о нашем городе американцам, – у нас ведь угольные шахты!
Мама работала в Военно-Медицинской академии на кафедре ортопедии. Там очень часто лечились балетные артисты, поэтому я знал имена тогдашних солистов Мариинского и Малого оперного театров. Время от времени они давали концерты для пациентов, на которые приходил и я. Кроме того, пациентам часто показывали кинофильмы. Хорошо работал и клуб академии. Там часто устраивались сборные концерты ведущих артистов Ленинграда и Москвы. Мне запомнилось, что когда в клубе устраивались профсоюзные или какие-то подобные конференции, мама приносила мне бутерброд с красной икрой.
К еде я был равнодушен. Ели мы обычную пищу. Поскольку у нас не было холодильника, мы покупали продукты по 100 граммов – масло, сыр, колбасу. Сразу после войны помню американские продукты, присылаемые в СССР по ленд-лизу, – ветчину в банках, яичный порошок, сушеную картошку. Но мне нравилась только ветчина. А вот когда я бывал дома один, я любил читать книгу, отрезать маленькие кусочки твердокопченой колбасы (если она была, конечно), выковыривать и выкидывать жир, а мясо сосать. Или брать яйцо, иголкой проделывать в нём дырочку и медленно высасывать содержимое. А затем в стакан наливать воду, делать насыщенный раствор соли и опускать туда пустую скорлупу. Через некоторое время яйцо становилось твердым. Ну а на сладкое – в банке со сгущенным молоком проделывать две дырочки и медленно его высасывать.
Получилось прямо как как в «Денискиных рассказах» – что я люблю!
Любил я проводить и «научные эксперименты» – растапливать воск и делать свечки, опуская в него нить, растворять медный купорос (и где я его брал?) и опускать туда железный гвоздь, наблюдая, как он покрывался медью, и др.
По всяким научно-популярным книжкам я научился делать оригами. Правда, тогда я не знал, что это так называется.
Благодаря маме я с детства следил за своими зубами: регулярно ходил к зубному врачу – сперва к частному, потом в обычную поликлинику. Вот походы к частному врачу мне запомнились. Пожилая (по моим детским понятиям) женщина-врач жила в знаменитом огромном доме на Кировском (Каменноостровском) проспекте. Мама с ней познакомилась, вероятно, еще до войны. Жила она в большой коммунальной квартире в первой от входной двери комнате. Приходили «тайно», как шпионы, поскольку частная врачебная деятельность не приветствовалась. В комнате стояло зубоврачебное кресло с ножным приводом для бормашины. Какая уж тут тайна от соседей, когда звук ее был слышен в коридоре! Несмотря на запреты, высокие налоги и визиты фининспекторов, частная деятельность в СССР существовала.
Особое место в жизни занимал поход в баню – дома ведь мыться было негде. Поблизости было две бани: на Карповке и Разночинные. Я предпочитал последние, поскольку там были отдельные душевые кабины. Баню я не любил (не мыться, а само помещение и ритуал). Я ходил туда с чемоданчиком, в котором лежали мочалка, мыло, полотенце и одежда. В общем зале-раздевалке бельё укладывалось в шкафчик, а номерок на веревочке привязывался к руке. Затем надо было пойти в «помывочную». Были и парные, но я туда не ходил. «Помывочная» – это громадный зал с каменными скамьями и множеством кранов с горячей и холодной водой. Вначале брались жестяная шайка для мытья тела и тазик для ног. Затем они ошпаривались под краном с горячей водой. Следующий этап – ошпаривание скамьи, а затем уже само мытьё. И вот тут наступало самое для меня неприятное. По правилам хорошего тона полагалось тереть и мыть незнакомому человеку спину. Естественно, что потом этот человек тер спину тебе. Поскольку мне это не нравилось, я стал ходить в душевое отделение, хоть там и приходилось сидеть в очереди. Ну а в очереди зато можно было читать!
А еще я любил ездить с мамой в гости к немногочисленным родственникам и знакомым, с которыми мама поддерживала отношения. Мне очень были интересны люди прошлого, которые рассказывали о жизни в царское время, о театральной жизни до и после революции, о писателях и книгах. Параллельно я любил рассматривать книги, изданные до революции, альбомы с репродукциями. Таких людей становилось всё меньше и меньше, но память о них у меня осталась навсегда. У каждого из них были очень интересные биографии. К сожалению, сейчас я уже не могу связно рассказать о них, многое улетучилось из памяти.
Помню Елену Ивановну Нефедьеву. Она жила в малюсенькой комнатке в коммунальной квартире на Съезжинской улице. Знаю, что муж ее был репрессирован, а сын работал начальником отделения в одном из НИИ Ленинграда. Елена Ивановна работала с мамой в ВИЭМе лаборанткой. У нее сохранилось немного старых книг. Знаю, что в 20-е годы она интересовалась искусством, театром, была знакома с известными режиссерами.
Еще одна мамина знакомая – Нина Владимировна Стаммер. Она была дочерью известного врача, профессора Военно-Медицинской академии. Ее старшая сестра тоже стала врачом – доктором медицинских наук. Такую же стезю отец прочил и младшей дочери, но она видела себя только в искусстве. Втайне от отца она поступила на какие-то курсы и стала выступать в балетных спектаклях. Когда отец узнал об этом, то разразился большой скандал, но делать было нечего – пришлось смириться. Позже она вышла замуж за художника Вадима Рындина (будущего главного художника Большого театра и некоторое время мужа Г. Улановой), родила дочь Машу, и они еще перед войной разошлись. Маша тоже стала художником, но жизнь ее сложилась неудачно.
После войны или во время войны Нина Владимировна вышла замуж за военного врача В. Э. Стаммера и родила дочь Надю. Некоторое время они жили в Германии, а потом вернулись в Ленинград. У Нины Владимировны были очень хороший вкус и безумная любовь к балету, а также невероятная энергия. До самой своей смерти она работала с детьми в разных клубах: ставила спектакли, проектировала и шила костюмы. Затем привлекла к этому делу дочь.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: