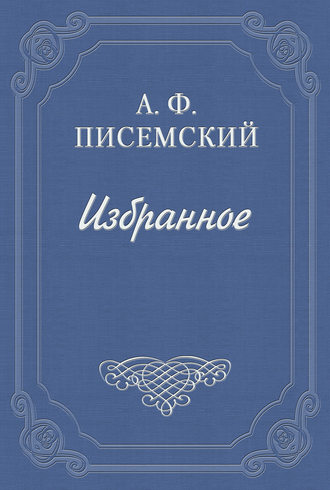
Масоны
– Кто вы такой и что вам надо?
– Я миссионер и желаю видеть господина Лябьева, – отвечал (читатель, конечно, уже догадался) Аггей Никитич.
Солдат пришел в окончательное недоумение: пустить или прогнать этого барина?
– Да вы из полковых дьячков, что ли? – придумал он спросить.
– Вроде того; я имею письмо к господину Лябьеву от его превосходительства Александра Яковлевича Углакова.
Как только услышал солдат о письме, так, даже не обратив внимания на то, что оно было от какого-то его превосходительства, не пустил бы, вероятно, Аггея Никитича; но в это время вышел из своей квартиры Аркадий Михайлыч, собравшийся куда-то уходить, что увидав, солдат радостным голосом воскликнул:
– Да вон он, господин Лябьев!.. К вам опять какой-то пришел, – присовокупил он сему последнему.
Аггей Никитич поспешил уже не по-светски, а по-монашески поклониться Лябьеву, которого поклон этот и вообще вся наружность Аггея Никитича тоже удивили.
– Я знакомый человек Егора Егорыча, облагодетельствованный им, и меня прислал к вам, как к ближайшим родственникам Егора Егорыча, Александр Яковлич Углаков.
С этими словами Аггей Никитич вручил Лябьеву письмо от Углакова, пробежав которое тот с заметною аттенцией просил Аггея Никитича пожаловать наверх, а вместе с тем и сам с ним воротился назад. Видевший все это унтер-офицер решил в мыслях своих, что это, должно быть, не дьячок, а священник полковой.
Введя Аггея Никитича в свою квартиру, Лябьев прямо провел его к Музе Николаевне и объяснил ей, что это господин Зверев, друг Егора Егорыча.
– Monsieur Зверев? – переспросила Муза Николаевна, припомнившая множество рассказов Сусанны Николаевны о том, как некто Зверев, хоть и недальний, но добрый карабинерный офицер, был влюблен в Людмилу и как потом все стремился сделаться масоном.
– Очень рада с вами познакомиться! – произнесла она. – Я так много слышала о вас хорошего! – заключила она, с любопытством осматривая странную одежду Аггея Никитича, который ей поклонился тоже смиренно и по-монашески.
Лябьев между тем, взглянув на часы, проговорил:
– Вы меня извините, я должен уехать: у нас сегодня музыкальный вечер!
Тогда Аггей Никитич обратился к Музе Николаевне:
– Вы позволите мне остаться у вас на несколько минут, – проговорил он.
– Ах, пожалуйста! – подхватила Муза Николаевна.
Лябьев после того скоро уехал.
– Отчего я вас вижу в монашеской одежде? Вы, мне говорили, прежде были военный? – спросила Муза Николаевна своего гостя.
Аггей Никитич при этом поник еще ниже и без того уже потупленной головой своей.
– Был-с я и военный, – начал он повествовать свою историю, – был потом и штатским чиновником, а теперь стал по моим душевным горестям полумонахом и поступил в миссионеры.
– Скажите, вы хорошо были знакомы с моей матерью и сестрами, когда они жили в Москве?
– Имел это счастие, только, к сожалению, недолго им пользовался; когда этот удар разразился над вашим семейством, я чуть не умер с отчаяния и сожалею даже, что не умер!..
При этих словах у Аггея Никитича навернулись на глазах слезы.
Муза Николаевна догадывалась, на что намекал Аггей Никитич; но, не желая, чтобы упомянуто было имя Людмилы, переменила разговор на другое.
– Вы женаты, однако? – спросила она.
Этот вопрос чувствительно уколол Аггея Никитича.
– Я женат единственно по своей глупости и по хитрости женской, – сказал он с ударением. – Я, как вам докладывал, едва не умер, и меня бы, вероятно, отправили в госпиталь; но тут явилась на помощь мне одна благодетельная особа, в доме которой жила ваша матушка. Особа эта начала ходить за мной, я не говорю уж, как сестра или мать, но как сиделка, как служанка самая усердная. Согласитесь, что я должен был оценить это.
– Конечно! – согласилась Муза Николаевна.
– Ну, а тут вышел такой случай: после болезни я сделался религиозен, и Егор Егорыч произвел на меня очень сильное впечатление своими наставлениями и своим вероучением.
– Но вы знаете ли, что Егор Егорыч помер? – перебила Аггея Никитича Муза Николаевна.
– Знаю-с, несколько еще дней тому назад я услыхал об этом от Александра Яковлевича Углакова, который, собственно, и прислал меня спросить вас, известно ли вам это?
– Но от кого Александр Яковлевич мог узнать о том? – недоумевала Муза Николаевна. – Может быть, Сусанна писала ему?
– Нет, не Сусанна Николаевна, а какой-то русский, который вместе с ними путешествовал.
– Какой же это может быть русский? – продолжала недоумевать Муза Николаевна.
– В письме Александра Яковлевича упомянуто об нем, – сказал Аггей Никитич.
– Да письмо-то Аркадий увез с собой! – продолжала Муза Николаевна тем же недоумевающим тоном: ее очень удивляло, почему Сусанна не упоминала ей ни о каком русском. «Конечно, весьма возможно, что в такие минуты она все перезабыла!» – объяснила себе Муза Николаевна. – Ну-с, слушаю дальнейшие ваши похождения! – отнеслась она к Аггею Никитичу.
Аггей Никитич глубоко вздохнул.
– Дальнейшие мои похождения столь же печальны были, как и прежние! – произнес он. – В отношении госпожи, о которой вам говорил, я исполнил свой долг: я женился на ней; мало того, по ее желанию оставил военную службу и получил, благодаря милостивому содействию Егора Егорыча, очень видное и почетное место губернского почтмейстера – начальника всех почт в губернии – с прекрасным окладом жалованья. Кажется, можно было бы удовлетвориться и благодарить только бога, но супруге моей показалось этого мало, так как она выходила за меня замуж вовсе не потому, что любила меня, а затем, чтобы я брал на службе взятки для нее, но когда я не стал этого делать, она сама задумала брать их.
– Господи! – воскликнула Муза Николаевна, никогда не воображавшая услышать о таком женском пороке. – Но кто же ей стал давать взятки?
– Она довольно лукаво это сделала и устроила так, что мне все почтмейстера начали предлагать благодарности; она меня еще думала соблазнить, но я сразу пресек это и вышел даже в отставку из этой службы и поступил в исправники. Супруге моей, конечно, это был нож острый, потому что она находила службу исправника менее выгодною, и в отмщение за это каждый день укоряла меня бедностью, а бедности, кажется, никакой не должно было бы существовать: жалованье я получал порядочное, у нее было имение в Малороссии, дом в Москве, капитал довольно крупный, и всего этого ей было мало.
– Значит, она совсем дрянная женщина! – воскликнула с негодованием Муза Николаевна.
– Совсем! – подтвердил Аггей Никитич.
– Но теперь вы разошлись с ней?
– Совершенно или, как вам сказать, она скорей разошлась со мной и написала мне, что ей невыгодно оставаться моей женой.
Муза Николаевна пожимала только плечами.
– Если ваша жена такая, как вы говорите о ней, то что же вас может огорчать, когда вы расстались с ней?
– Я нисколько не огорчаюсь, даже радуюсь и в восторге от этого. Я морально убит-с другим, убит тем, что разошелся с другой женщиной, перед которой я ужас что такое натворил.
– Как? – полувоскликнула Муза Николаевна, широко раскрывая от удивления глаза. – Стало быть, у вас был новый роман?
– Новый! – отвечал откровенно и наивно Аггей Никитич.
– Кто ж это такая была? – любопытствовала Муза Николаевна.
– Это одна полька, прелестнейшее и чудное существо; но, как все польки, существо кокетливое, чего я не понял, или, лучше сказать, от любви к ней, не рассудив этого, сразу же изломал и перековеркал все и, как говорится, неизвестно для чего сжег свои корабли, потом, одумавшись и опомнившись, хотел было воротить утраченное счастие, но было уже поздно. Она очень натурально оскорбилась на меня и уехала с одним семейством в деревню, а я остался один, как этот дуб[217], про который поется, что один-один бедняжечка стоит на гладкой высоте.
– И вы в миссионерстве хотите утопить ваше горе? – проговорила с участием Муза Николаевна.
– Постараюсь, если только возможно, – отвечал, вздохнув, Аггей Никитич.
– Но куда же именно вы поедете? – расспрашивала Муза Николаевна.
– В Сибирь, вероятно.
– Но что же вы будете там делать?
– Буду творить волю пославших мя! – произнес Аггей Никитич многознаменательно. – Мне, впрочем, лучше об этом не говорить, а я поспешу исполнить приказание Александра Яковлевича, который поручил мне спросить вас, провезут ли тело Егора Егорыча через Москву?
– Непременно; иначе нельзя проехать в Кузьмищево, – отвечала Муза Николаевна.
Аггей Никитич при этом потер себе лоб.
– В таком случае Александр Яковлевич, у которого я теперь живу, предполагал бы устроить торжественную встречу для бренных останков, всем дорогих, Егора Егорыча.
– Это бы очень было хорошо, – подхватила Муза Николаевна, – но я не знаю ни того, куда писать сестре, ни того, когда она приедет сюда.
– Это, вероятно, узнается: тот же русский пишет Александру Яковлевичу, что он будет уведомлять его по мере приближения тела к Петербургу.
«Опять этот русский!» – снова промелькнуло в уме Музы Николаевны, и у нее даже зародилось подозрение касательно отношений этого русского к Сусанне Николаевне.
Побеседовав таким образом с m-me Лябьевой, Аггей Никитич ушел от нее под влиянием воспоминаний о пани Вибель. «Ты виноват и виноват!» – твердила ему совесть, но когда он в своем длиннополом подряснике медленно переходил пространство между Тверским бульваром и Страстным, то вдруг над самым ухом его раздался крик: «Пади, пади!». Аггей Никитич взмахнул головой и отшатнулся назад: на него наехал было фаэтон, в котором сидела расфранченная до последней степени пани Вибель, а рядом с ней откупщик Рамзаев, гадкий, безобразный и вдобавок еще пьяный. Аггей Никитич понял хорошо, что совесть его в отношении этой госпожи должна была оставаться покойна. Тем не менее эта мимолетная встреча потрясла все его существо. Почти шатаясь, он вошел на Страстной бульвар, где, сев на лавочку, поник головой и прослезился.
XII
Перед обычным субботним обедом в Английском клубе некоторые из членов что-то такое шепотом передавали друг другу, причем, вероятно, из опасения, чтобы их не подслушали лакеи, старались говорить больше по-французски.
– Avez vous entendu?[218]
– Oui, mais je voudrais savoir, ou cela aura lieu?[219]
– Je ne puis rien vous dire la-dessus.[220]
– Mais c'est fort dangereux![221]
– Je crois bien, mais que voulez vous?.. Noblesse oblige.[222]
– Сергей Степаныч здесь?
– Говорят.
– Не говорят, а я сам его видел; он сегодня будет обедать здесь.
– Ах, как я рад этому!
Посреди такого галденья человек пять или шесть, все уже людей весьма пожилых, ходили с заметно важными и исполненными таинственности лицами. Из них по преимуществу кидались в глаза, во-первых, если только помнит его читатель, Батенев, с орлиным носом, и потом другой господин, с добродушнейшею физиономией и с полноватым животом гурмана, которого все называли Павлом Петровичем. Эти пять – шесть человек на адресуемые к ним вопросы одни отделывались молчанием, а другие произносили: «Nous ne savons rien!»[223]. Наконец появился Сергей Степаныч. Он прямо подошел к Батеневу и спросил его:
– Князь здесь?
– Нет, где ему? Совсем слепнет. Меня командировал за себя!
– Поэтому вы будете говорить речь вместо князя? – спросил с некоторым беспокойством Сергей Степаныч.
– Я буду; хошь не хошь, а пой! – отвечал мрачным голосом Батенев.
В это же самое время на конце стола, за которым в числе других, по преимуществу крупных чиновников Москвы, сидел обер-полицеймейстер, происходил такого рода разговор.
– Правда ли, что тело Марфина привезли из-за границы в Москву? – спросил обер-полицеймейстера хорошо нам по своим похождениям известный камер-юнкер, а ныне уже даже камергер.
– Правда, – отвечал тот ему неохотно и направил свой взгляд к тому месту обеденного стола, где помещался Сергей Степаныч вместе с Батеневым и Павлом Петровичем.
– Но говорят, что они устраивают совершить траурную ложу?
– Вы, может быть, это знаете, а я нет, – ответил ему с явным презрением обер-полицеймейстер.
Камергер немного прикусил язык.
– Вот они, эти господа! Какие-нибудь невинные удовольствия на афинских вечерах запрещают, а тут черт знает что затевают, это ничего! – шепнул он шипящим голосом своему соседу, который в ответ на это только отвернулся от камергера: явно, что monsieur le chambellan[224] потерял всякий престиж в la haute volee.[225]
Когда за жарким стали в разных группах пить шампанское, то обер-полицеймейстер, взяв бокал, подошел к Сергею Степанычу.
– Не могу удержаться, чтобы не выпить за ваш благополучный приезд сюда, – сказал он.
– Grand merci![226] – ответил Сергей Степаныч. Затем он проворно поднялся со стула и, взяв обер-полицеймейстера под руку, отвел его несколько в сторону от обеденного стола. – Надеюсь, что нам позволят прах нашего достойного друга почтить, как он заслужил того? – спросил он вполголоса.
– Я говорил сегодня об этом с генерал-губернатором, – отвечал обер-полицеймейстер, – он разрешает и просит только, чтобы не было большой огласки.
– Никакой! Будут только свои, – ответил Сергей Степаныч и сел опять на прежнее место.
На другой день в почтамтской церкви архангела Гавриила совершилась заупокойная обедня по усопшем болярине Егоре Егорыче Марфине. Священники были облачены в черные ризы, а равно и большая часть публики являла на себе признаки траура. В толпе молящихся было очень много знакомых нам лиц. Прежде всех, конечно, Сусанна Николаевна, похудевшая, истомленная, и вместе с тем в ее прекрасных глазах выражалась какая-то уверенность, что умерший преисполнен теперь радостей загробной жизни. Около нее стояли Сергей Степаныч и Лябьевы, муж и жена, gnadige Frau и Сверстов, который своей растрепанной физиономией напоминал доброго и печального пуделя, измученного хлопотами по чужим горям. На мужской, собственно, половине стояли совсем сгорбившийся, сморщенный, как старый гриб, Углаков, Батенев и Павел Петрович, а также и Аггей Никитич Зверев, в скромной одежде монастырского послушника. У самых дверей храма виднелись Терхов (гегелианец) и Антип Ильич, на щеках которого тени не оставалось прежнего старческого румянца.
По окончании службы, когда начали выходить из церкви, то на паперти к Сусанне Николаевне подошел Аггей Никитич; она, уже слышавшая от Лябьевых обо всем, что с ним произошло, приветливо поклонилась ему, и Аггей Никитич тихим, но вместе с тем умоляющим голосом проговорил:
– Сусанна Николаевна, позвольте мне быть на вашем вечернем собрании и помянуть с другими душу Егора Егорыча.
Сусанна Николаевна сильно затруднилась, что ему отвечать.
– Я, право, не знаю, возможно ли это… – сказала она, боязливо взглядывая на стоявшего около нее Сверстова.
– Я думаю, можно!.. Но лучше я прежде спрошу Сергея Степаныча, – присовокупил он и проворно пошел обратно в церковь, где в сопровождении старика Углакова Сергей Степаныч вместе с Батеневым рассматривали изображения и надписи на церковных стенах, причем сей последний что-то такое внушительно толковал.
Когда Сверстов передал Сергею Степанычу просьбу Аггея Никитича с пояснением, что тот теперь миссионер и совсем готовый масон, то сей последний возразил:
– Однако он не был нигде принят в ложу?
– Не был, потому что негде было принять, – объяснил Сверстов.
Сергей Степаныч некоторое время подумал.
– Я с своей стороны готов это дозволить господину Звереву, но как вот другие! – произнес он и обратился к Батеневу, Углакову и Павлу Петровичу: – Как вы, господа, полагаете?
Последние двое прямо объявили, что они согласны, но Батенев, злобно усмехнувшись, сказал:
– Моя-с изба с краю, и я ничего не знаю.
– Разрешите господину Звереву быть на собрании! – проговорил Сергей Степаныч Сверстову, который, возвратясь на паперть церкви, объявил Аггею Никитичу:
– Можете быть!
Тот ему низко поклонился.
Сусанна Николаевна поехала в свою гостиницу в карете, сопровождаемая Музой Николаевной, gnadige Frau и Терховым.
В подвальном этаже одного из домов около почтамта в сквозь завешанные окна виднелось освещение. Часу в девятом вечера к этому дому стали подъезжать возки и кареты. Экипажи, впрочем, сейчас же уезжали, а приехавшие в них проходили пешком во внутренность двора. В сказанном подвальном помещении должна была совершиться траурная масонская ложа по умершем брате Firma Rupes. Все стены огромного помещения были выкрашены черной краской. На просторной эстраде, обитой черным сукном, на том месте, где обыкновенно в масонских ложах расстилался ковер, стоял черный гроб, окруженный тремя подсвечниками со свечами. На крышке гроба, в ногах оного, лежал знак великого мастера, а на черном пьедестале горел с благовонным курением спирт; в голове гроба на крышке лежал венок из цветов, и тут же около стояла чаша с солью. Все собравшиеся братья, в числе которых находились также Сусанна Николаевна и gnadige Frau, были в черных одеждах или имели на стороне сердца черный из лент приколотый бант, а иные – черный флер около левой руки. Великий мастер, который был не кто иной, как Сергей Степаныч, в траурной мантии и с золотым знаком гроссмейстера на шее, открыв ложу обычным порядком, сошел со своего стула и, подойдя к гробу, погасил на западе одну свечу, говоря: «Земля еси и в землю пойдеши!» При погашении второй свечи он произнес: «Прискорбна есть душа моя даже до смерти!» При погашении третьей свечи он сказал: «Яко возмеши дух, и в персть свою обратится». После чего великий мастер стал у головы гроба, имея в правой руке молоток, а надзиратели, Батенев и Павел Петрович, стали в ногах гроба. Великий мастер ударил по гробу три раза молотком; надзиратели сделали то же самое.
Великий мастер. Кто есть человек, смерти вкусить не могущий? Возможет ли кто искупить от гроба душу свою?
Некоторое молчание.
Великий мастер. Человек скитается, яко тень, яко цвет сельный отцветает. Сокровиществует и не весть кому соберет, умрет и ничего из славы сей земли с собой не понесет. Наг приходит в мир сей и наг уходит. Господь даде, господь и взя.
Снова некоторая пауза.
Великий мастер. Да умрем смертию праведных и да уподобимся им кончиною нашею! Господь есть бог наш, той есть с нами до смерти.
Все братья окружают гроб и приемлют молитвенное положение, а великий мастер читает молитву:
«Отец всемогущий, тебе вручаем душу брата нашего; отверзи ей дверь живота, возложи на нее брачное одеяние правды, более торжественное одеяние субботы вечныя, да представится она тебе чиста и непорочна, и услышит радостную песнь победы!»
Все братья громогласно восклицают: «Аминь!»
Снова после некоторого молчания великий мастер продолжает:
«Боже преславный, всякого блага начало, милосердия источниче, ниспошли на нас, грешных и недостойных рабов твоих, благословение твое, укрепи торжественное каменщическое общительство наше союзом братолюбия и единодушия; подаждь, о господи, да сие во смерти уверяющее свидетельство напоминает нам приближающуюся судьбину нашу и да приуготовит оно нас к страшному сему часу, когда бы он нас ни постигнул; да возможем твоею милосердою десницей быть приятыми в вечное царствование твое и там в бесконечной чистой радости получить милостивое воздаяние смиренной и добродетельной жизни».
После этой речи великого мастера братья, поцеловавшись, запели довольно нескладно на голос: «Коль славен наш господь в Сионе»:
Отец духов, творец вселенной,И жизнь и смерть в твоих руках.Прейдя срок нам определенный,Мы станем пепел, тлен и прах;Ты дух, нам вдунутый тобою,Зовешь к блаженству и покою.Ты жизнь всего творишь от тленья,Из тьмы изводишь в вечный свет,Чудесной силой обновленьяВоздвинствуешь – и смерти нет.Дай силы нам и чувства новы,Да свергнем смертные оковы!К себе от нас ты воззвал брата,Из плоти дух ты сотворил;Печальна нам сия утрата,Но ты живешь, и брат наш жив!Мы дух его тебе вручаем,Отца о брате умоляем:Прийми его, святых святейший,И в лоне отчем упокой!Да внидет в твой чертог светлейшийИ пребывает в нем с тобой!По окончании пения великий мастер снова ударил троекратно по гробу, а за ним повторили то же и надзиратели. Великий мастер, сев снова на свой стул, произнес:
– Между членами нашего общества существует от глубочайшей древности переданный обычай, чтобы по смерти каждого достойного брата совершались воспоминательные и таинственные обряды. Сие установлено сколько во изъявление любви нашей, и за гробом братьям нашим сопутствующей, столько же и во знамение того, что истинных свободных каменщиков в духе связь и по отшествии их от сего мира не прерывается. Следуя сему достохвальному обычаю и по особой верности нашего усопшего брата, Егора Егорыча Марфина, коего память мы чтим и коего потерю оплакиваем, собрались мы в священный наш храм. Братия, внемлите предпринимаемому мною теперь действию.
Затем великий мастер, встав и снова подойдя к гробу, взял из стоящей чаши горсть соли и сказал:
– Суха быша кость наша, потребися надежда наша; мертвы быхом… (Держа соль над гробом.) От четырех ветров прииде душа и вдуни на мертвия сия и да оживут! (Изображая солью четверть окружности.) Се глаголет господь костем сим: се аз введу в вас дух животный… (Продолжая другую четверть окружности.) И дам дух мой в вас, и увести, яко аз есмь в вас… (Делая третью четверть окружности.) И отверзу гробы ваши и изведу вас от гробов ваших, людие мои… (Заканчивая окружность.) И введу вас в землю Израилеву… (Проводя диаметр в кругу.) И поставлю вы на земли вашей, и увести, яко аз глаголах и сотворю, глаголет господь, тако.
Братья восклицают: «Аминь!»
Засим великий мастер начал зажигать стоящие около гроба свечи, говоря при зажжении первой свечи: «Вы есте соль земли», второй свечи: «Вы есте свет миру», третьей свечи: «Вы есте род избран, царское священие, язык свят, люди обновления!».
По совершении этого обряда великий мастер, удаляясь на свое место, взглянул вместе с тем на Батенева, который, встав на эстраду, проговорил изустную речь:
– Гроб, предстоящий взорам нашим, братья, изображает тление и смерть, печальные предметы, напоминающие нам гибельные следы падения человека, предназначенного в первобытном состоянии своем к наслаждению непрестанным бытием и сохранившим даже доселе сие желание; но, на горе нам, истинная жизнь, вдунутая в мир, поглощена смертию, и ныне влачимая нами жизнь представляет борение и дисгармонию, следовательно, состояние насильственное и несогласное с великим предопределением человека, а потому смерть и тление сделались непременным законом, которому все мы, а равно и натура вся, должны подвергнуться, дабы могли мы быть возвращены в первоначальное свое благородство и достоинство. Смерть и тление есть ключ, отверзающий свет, сокровенный во всех телах, кои суть его темницы; она есть та работная храмина, в коей отделяются чуждые смешения от небесного и неизменного начала и где разрушение одного служит основанием к рождению другого. Положение сие есть общее, особенно относительно возрождения человеческого, и все, что в натуре можно видеть телесно, то в нас духовно происходить должно. В каждом из нас должен совершаться процесс духовного и телесного тления и в нас должны отделяться чуждые смешения от небесного начала. Из сего вы видите, любезные братья, что нет иного пути к возрождению, к возвращению в первобытное состояние, как путь доброделания, смирения, путь креста и смерти! Ныне оплакиваемый нами брат всегда являл собою высокий пример сих качеств. Мы все, здесь стоящие, имели счастие знать его и быть свидетелями или слышать о его непоколебимой верности святому ордену, видели и испытали на себе, с какой отеческою заботливостью старался он утверждать других на сем пути, видели верность его в строгом отвержении всего излишнего, льстящего чувствам, видели покорность его неисповедимым судьбам божиим, преданность его в ношении самых чувствительных для сердца нашего крестов, которые он испытал в потере близких ему и нежно любимых людей; мы слышали о терпении его в болезнях и страданиях последних двух лет. Вот некоторые черты верности и покорности к судьбам божиим сего незабвенного для нас мужа; но кто может исследовать внутренние опыты и кресты, им пройденные, кои господь употребляет, яко сильнейшее средство к утверждению по пути, ведущему к нему? Кто может судить о внутреннем процессе, с ним совершившемся в последнее время жизни его? Здесь я приведу собственные слова Егора Егорыча, им доверенные мне в одном из посланий своих. «Я переношу теперь, – писал он, – такие искушения, которые и пересказать не могу, и из всего того вижу со стороны человека единую бедность и ничтожество, а со стороны бога единое милосердие». Рассуждение о сем важном процессе пусть сделают те, кои более или менее испытали оный на самих себе; я же могу сказать лишь то, что сей взятый от нас брат наш, яко злато в горниле, проходил путь очищения, необходимый для всякого истинно посвятившего себя служению богу, как говорит Сирах[227]: процесс сей есть буйство и болезнь для человеков, живущих в разуме и не покоряющихся вере, но для нас, признавших путь внутреннего тления, он должен быть предметом глубокого и безмолвного уважения. В заключение я напомню кротость Егора Егорыча, несмотря на сангвинический темперамент, его любовь и снисходительность к недостаткам других, его неутомимую деятельность в назидании братьев и исполненное силою духа слово. Он может быть уподоблен реке, коей источник сокрыт и невидим, но в котором утолили жажду свою многие странники, изведенные им из пленения египетского и идущие в собственную землю. В сей-то таинственный источник, от коего чествуемый нами брат заимствовал силу и сладость учения, он сокрылся ныне и в нем почерпает теперь беспрепятственно воду жизни. Да возвеселится дух его в Сионе[228] со всеми любящими и друзьями божьими. Союз его с нами неразлучен; цепь, коей верхние звены теряются в небесах и в коей усопший друг наш занимает приуготованное ему место, касается и нас. Будем подкреплены благодатию господа и спасителя нашего, сохраняя верность до смерти!

