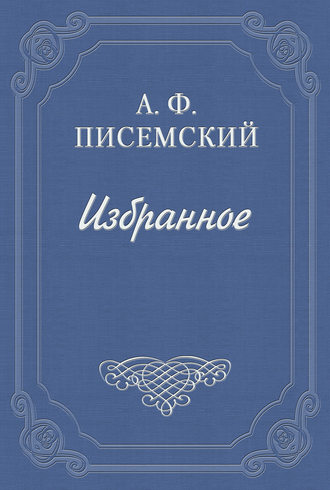
Масоны
– А не родственница ли вы одному исправнику, Звереву, с которым я познакомился в уездном городе? – спросил он.
Миропа Дмитриевна по совершенно непонятному предчувствию не захотела себя назвать женою этого исправника и сказала только:
– Нет, это однофамилец мой! Его, кажется, зовут Аггей Никитич?
– Кажется, так; помню только, что у него какое-то дурацкое имя, – говорил камер-юнкер, – а между тем он в этом городишке разыгрывает роль какого-то льва… Пленил жену аптекаря, увез ее от мужа и живет с ней…
При этом известии Миропа Дмитриевна не совладела с собой и вся вспыхнула.
– Вы говорите, он живет с аптекаршей? – спросила она.
– Живет и почти явно это делает; сверх того, чудит еще черт знает что: ревнует ее ко всем, вызывает на дуэль… – говорил камер-юнкер; но так как в это время было окончательно изготовлено заемное письмо и его следовало вручить Миропе Дмитриевне, а она, с своей стороны, должна была отсчитать десять тысяч камер-юнкеру, то обряд этот прекратил разговор об Аггее Никитиче.
Для Миропы Дмитриевны, впрочем, было совершенно достаточно того, что она услыхала. Возвратясь домой с физиономией фурии, Миропа Дмитриевна, не откладывая времени, написала своему супругу хорошенькое письмецо, в коем изъяснила:
«Я всегда считала тебя олухом с тех пор, как с глаз моих спала повязка, по выходе моем за тебя замуж… (Тут бы, собственно, Миропе Дмитриевне следовало сказать: с тех пор, как ты не захотел на службе брать взятки.) Но теперь я вижу, что, кроме того, ты человек самой низкой души, ты обманщик, притворщик и развратник. Как ты смел позволить себе через какие-нибудь два-три дома от нас завести себе любовницу – эту потаскушку-аптекаршу? Неужели ты думал, что я никогда этого не узнаю, или когда узнаю, то позволю тебе это делать? Из каких благополучии, интересно знать? Что ты – прелестным браком твоим со мной наградил меня титулами, чинами, почестями, богатством? Кажется, этого нет, а только унизил меня: из полковницы я сделалась майоршей и проживала на тебя деньги мои. Всякая дура, баба деревенская не станет этого терпеть, и потому я не хочу с тобой больше жить. Черт с тобой; не смей писать мне, ни являться ко мне, чему ты, конечно, будешь очень рад, находясь, вероятно, целые дни в объятиях твоей мерзавки!
Остаюсь ненавидящая и презирающая тебя Миропа Зудченко».
Аггей Никитич пред тем, как получить ему такое грозное послание, продолжал снова все более и более входить в интерес масонства, которое с прежним увлечением преподавал ему почти каждый вечер почтенный аптекарь. И вот в один из таковых вечеров Вибель читал своему неофиту рукописную тетрадку, предуведомив его, что это – извлечение из сборника, принадлежавшего некоему ученому последователю Новикова.
– Мнения о высших целях нашего ордена, – возглашал Вибель, закрывая немного глаза, – столь разнообразны, что описать оные во всех их оттенках так же трудно, как многоразличную зелень полей, лугов и лесов, когда летний ветер навевает на них тени облаков. Некоторые думают, что цели сии состоят в том, чтобы делать людей более добродетельными посредством ожиданий, напрягающих и возвышающих нашу душу, посредством братской помощи и общественной радости и, таким образом, мало-помалу соединить людей достойных в всеобщий союз, который не только бы укреплял каждого особенно, но служил бы и к тому, чтобы соединенными силами увлекать даже тех, кои без энтузиастических видов не взяли бы в том участия.
На этих словах Вибель приостановился и, проговорив наскоро от себя: – С этим мнением я более чем с каким-нибудь согласен! – продолжал дальше читать:
– Другие думают, что сие, конечно, составляет одну из целей, при которой большая часть братии остается, да сия ж внутренняя работа есть и необходимое средство к получению большего. Но что же сие большее? Оно есть испытание натуры вещей и чрез то приобретение себе силы и власти к моральному исправлению людей, власти к познанию обновления нашего тела, к превращению металлов и к проявлению невидимого божественного царства. Некоторые думают, что сие есть, конечно, то богатство, которое приходит к нам с премудростью, но что цель есть, собственно, сама премудрость, соединенная с божеством. Иные почитают такую цель за мечту и невозможность и думают, что распространение человеколюбия, нравственности и общественности, радостное, мудрое наслаждение жизнью и спокойное ожидание смерти есть истинная и удобная для достижения цель. Мораль и религия стараются сие произвести средствами важными, а орден наш – под завесом удовольственных занятий. Вообще мнение братьев различествует в том, что одни почитают сию цель преданьем уже приобретенной мудрости, сообщенной даром провидения высшим главам ордена, для принятия коего, конечно, надлежит им работать. Другие же принимают цель ордена за несовершившееся еще намерение, но к совершению коего ведет работа по предписанию ордена, и которая может быть, весьма редко здесь на земле и познается; но когда настанет время зрелости, она явится и до какой степени воссияет – определить нельзя, да и не нужно. Самое блистательнейшее не кажется невозможным! Довольно, что все вообще признают целью приближение человека к некоторому образу совершенства, не говоря, есть ли то состояние первозданной славы и невинности, или преобразование по Христу, или тысячелетнее царствие, или глубоко-добродетельная, радостная мудрость, в сем ли мире то совершится, или по ту сторону гроба, но токмо каждый стремится к совершенству, как умеет, по любезнейшему образу своего воображения, и мудрейший не смеется ни над одним из них, хоть иногда и все заставляют его улыбаться, ибо в мозгу человеческом ко всякому нечто примешивалось.
Из всего этого чтения аптекаря Аггей Никитич уразумел, что цель каждого человека – совершенствоваться и вследствие того делаться счастливым. «Но совершенствуюсь ли я хоть сколько-нибудь? – задал он себе вопрос. – Казалось бы, что так: тело мое, за которое укорял меня Егор Егорыч, изнурено болезнью и горями; страстей теперь я не имею никаких; злобы тоже ни против кого не питаю; но чувствую ли я хоть маленькое счастие в чем-нибудь? Нет, нет и нет! – ответил себе троекратно Аггей Никитич. – А между тем хоть масоны, может быть, эту земную любовь считают грехом, но должно сознаться, что я был только совершенно счастлив, когда наслаждался полной любовью пани Вибель; вот бы тут надо спросить господ масонов, как бы они объяснили мне это?»
При такого рода размышлениях Аггею Никитичу подали письмо Миропы Дмитриевны, прочитав которое он прежде всего выразил в лице своем презрение, а потом разорвал письмо на мелкие клочки и бросил их на пол. Старик Вибель заметил это и, как человек деликатный, не спросил, разумеется, Аггея Никитича, что такое его встревожило, а прервал лишь свое чтение и сказал:
– Если вам что-либо показалось неясным, то послезавтра, будучи у вас, я все вам разъясню.
Аггей Никитич крепким пожатием поблагодарил его за такое намерение, и когда Вибель ушел от него, то в голове моего безумного романтика появилась целая вереница новых мыслей, выводов и желаний. «Итак, я стал свободен, – думал он, – но зачем же мне эта свобода? При других обстоятельствах я всю бы жизнь, конечно, отдал пани Вибель, но теперь…» О, как проклинал себя Аггей Никитич за свою глупую историю в Синькове с камер-юнкером, за свою непристойную выходку против пани Вибель, даже за свое возобновление знакомства с добрейшим аптекарем, и в голове его возникло намерение опять сойтись с пани Вибель, сказать ей, что он свободен, и умолять ее, чтобы она ему все простила, а затем, не рассуждая больше ни о чем, Аггей Никитич не далее как через день отправился на квартиру пани Вибель, но, к ужасу своему, еще подходя, он увидел, что ставни квартиры пани Вибель были затворены. Аггей Никитич порывисто отмахнул калитку у ворот и вошел на двор домика, на котором увидел сидевшую на прилавке просвирню и кормившую кашей сбегавшихся к ней со всех сторон крошечных куриных цыплят.
– А Марья Станиславовна где? – спросил он ее.
– Она еще в прошлом месяце уехала с нашим откупщиком в их именье и будет гостить у них все лето.
– Квартиру же эту она за собой оставила?
– Ничего не сказала, и я вот не знаю, отдавать ли ее или нет.
– Да вы бы написали Марье Станиславовне, – посоветовал Аггей Никитич немного дрожащим голосом.
– Писала уж, но она не отвечает, и я хотела было к вам идти, попросить вас: не напишете ли вы ей; тогда тоже вы вместе с ней нанимали квартиру.
– Я не могу ей писать, я больше не в переписке с Марьей Станиславовной, – объяснил Аггей Никитич, по краснев.
– Слышали мы это! – произнесла просвирня печальным тоном. – Ветреная женщина, больше ничего! Уезжая, всем говорила, что ее приглашает Анна Прохоровна, а прислуга откупщицкая смеется и рассказывает, что ее увез с собой сам откупщик; ну, а он тоже – всем известно, какой насчет этого скверный!
Аггей Никитич, еще более покраснев, прекратил разговор с глупой просвирней и пошел домой, унося в душе новые подозрения насчет пани Вибель. «Уехать гостить; и к кому же? К человеку, которого она сама называла дураком!.. Впрочем, что же! Она и меня, вероятно, считала дураком, однако это не помешало ей ответить на мою любовь… Очень уж она охотница большая до любви!» – заключил Аггей Никитич в мыслях своих с совершенно не свойственной ему ядовитостью и вместе с тем касательно самого себя дошел до отчаянного убеждения, что для него все теперь в жизни погибло, о чем решился сказать аптекарю, который аккуратнейшим образом пришел к нему в назначенное время и, заметив, что Аггей Никитич был с каким-то перекошенным, печальным и почти зеленым лицом, спросил его:
– Вы опять себя дурно чувствуете?
– Нет, – ответил Аггей Никитич, – я много думал о самом себе и о своем положении и решился идти в монастырь.
Немец при этом широко раскрыл глаза свои.
– В какой? – сказал он.
– Я пойду там в какой-нибудь, – проговорил мрачно Аггей Никитич.
– Но зачем же именно в монастырь? – заметил Вибель.
– Для успокоения души моей! – объяснил Аггей Никитич.
Что-то вроде усмешки появилось на губах Вибеля.
– Монастырь, как я думаю, есть смущение души, а не успокоение, – определил он.
– Но куда ж мне, наконец, бежать от самого себя? – воскликнул Аггей Никитич с ожесточением. – Служить я тут не могу и жить в здешнем городе тоже; куда ж уйду и где спрячусь?
– Спрячьтесь в масонство и продолжайте идти по этому пути! – посоветовал ему Вибель.
– Этим путем я неспособен идти!.. Если бы для масонства нужно было выйти в бранное поле, я бы вышел первый и показал бы себя, а что иное я могу делать?
Вибель потер себе лоб рукою.
– Вот что пришло мне в голову! – начал он. – Если бы вы дополнили несколько ваше масонское воспитание.
– Для чего? – спросил сурово Аггей Никитич.
– Для того, – продолжал Вибель неторопливо, – что, как известно мне от достоверных людей, в Петербурге предполагается правительством составить миссию для распространения православия между иноверцами, и у меня есть связь с лицом, от которого зависит назначение в эту комиссию. Хотите, я готов вас рекомендовать в оную.
– Но как же я стану распространять православие, когда сам его не знаю? – возразил Аггей Никитич.
Тут лицо Вибеля сделалось строгим и повелительным.
– Вы не православие должны распространять, а масонство! – проговорил он.
Точно бы светлый луч какой осветил лицо Аггея Никитича.
– Нет сомнения, что я готов; но не знаю, совладею ли с этим, – произнес он.
– Отчего ж вам не совладеть? – возразил Вибель. – Если даже вы совершенно неопытны в деле миссионерства, то мы станем снабжать вас в наших письмах советами, сообразно тому, как вы будете описывать нам вашу деятельность, а равно и то, что вам представится посреди иноверцев.
– Буду все описывать-с и исполнять все ваши приказания! – проговорил Аггей Никитич, действительно готовый все исполнять, лишь бы ему спастись от службы и, главное, от житья в уездном городке, где некогда он был столь блажен и где теперь столь несчастлив.
– Не позволите ли вы мне написать о вашем предложении Егору Егорычу Марфину и доктору Сверстову – мужу gnadige Frau? – спросил он.
– Непременно напишите! – разрешил ему аптекарь.
Аггей Никитич, исполнившись надежды, что для него не все еще погибло, немедля же по уходе аптекаря написал письма к Егору Егорычу и Сверстову, сущность которых состояла в том, что он передавал им о своем намерении поступить в миссионеры аки бы для распространения православия, но в самом деле для внушения иноверцам масонства. Последние слова Аггей Никитич в обоих письмах подчеркнул. Ответ от Сверстова он очень скоро получил, в коем тот писал ему: «Гряди, и я бы сам пошел за тобой, но начинаю уж хворать и на прощанье хочу побранить тебя за то, что ты, по слухам, сильно сбрендил в деле Тулузова, который, говорят, теперь совершенно оправдан, и это останется грехом на твоей душе». Аггей Никитич очень хорошо понимал, что это был грех его, и ожидал от Егора Егорыча еще более сильного выговора, но тот ему почему-то ничего не отвечал.
XI
На Тверском бульваре к большому дому, заключавшему в себе несколько средней величины квартир, имевших на петербургский манер общую лестницу и даже швейцара при оной, или, точнее сказать, отставного унтер-офицера, раз подошел господин весьма неприглядной наружности, одетый дурно, с лицом опухшим. Отворив входную дверь сказанного дома, он проговорил охриплым голосом унтер-офицеру:
– Здесь господа Лябьевы живут?
– Здесь, – отвечал тот не очень доброхотно.
– Ты можешь им доложить обо мне? – спросил прибывший.
– Кто же вы такой? – спросил, в свою очередь, унтер-офицер.
– Я Янгуржеев, приятель господина Лябьева; поди доложи! – как бы уже приказал прибывший.
Унтер-офицер, впрочем, прежде чем пойти докладывать, посмотрел на вешалку, стоявшую в сенях, и, убедившись, что на ней ничего не висело, ушел и довольно долго не возвращался назад, а когда показался на лестнице, то еще с верхней ступеньки ее крикнул Янгуржееву окончательно неприветливым голосом:
– Их дома нет, болен Лябьев, не принимает.
– Как болен и дома нет? – спросил было Янгуржеев.
– Так, не велено вас принимать, вот и все! – объяснил солдат, сойдя с лестницы, и потом, отворив входную дверь, указал движением руки господину Янгуржееву убираться, откуда пришел.
– Отдай по крайней мере Лябьеву письмо от меня! – снова полуприказал тот, подавая письмо, каковое солдат медлил принять от него.
– Да о чем вы пишете им? – сказал он.
– Это не твое дело, дурак этакий! Ты должен отдать, – вспылил Янгуржеев и, бросив письмо на прилавок, ушел.
– Еще ругается, пропоец этакий!.. Ну, приди ты у меня в другой раз, я те спроважу в полицию! – проговорил ему вслед солдат; письмо Янгуржеева, впрочем, он отдал Лябьевым, от которых через горничную получил новое приказание никогда не принимать Янгуржеева.
– Я его и не приму; видал я этаких оборванцев-то, немало их спровадил, – объявил солдат.
Здесь считаю нелишним сказать, что жизнь Лябьевых в ссылке, в маленьком сибирском городке, не только их не сломила, а, напротив, как бы освежила и прибодрила. У Лябьева прежде всего окончательно пропала страсть к картам, внушенная ему той развращенной средой, среди которой он с молодых лет пребывал, потом к нему возвратились его художественные наклонности. Он, без преувеличения говоря, целые дни проводил в разного рода музыкальных упражнениях: переучил без всякой, разумеется, платы всех молодых уездных барышень играть хоть сколько-нибудь сносно на фортепьяно, сам играл и творил. Муза Николаевна тоже снова пристрастилась к музыке, и, к вящему еще благополучию ее, у нее родился ребенок – сын, который не только что не умер, но был прездоровенький и, как надо ожидать, должно быть, будущий музыкант, потому что когда плакал, то стоило только заиграть на фортепьяно, он сейчас же притихал и начинал прислушиваться. Дозволение возвратиться в Москву Лябьевы приняли не с особенной радостью и, пожалуй бы, даже не возвратились из Сибири, если бы не желали жить поближе к Марфиным. Из всего этого можно понять, сколь неприятно было им посещение Янгуржеева; особенно оно болезненно подействовало на Аркадия Михайлыча, так что он почти растерянным голосом спросил Музу Николаевну:
– Что мне делать с этим мерзавцем?
Тут уж Муза Николаевна восстала со всей энергией, на сколько та ей была свойственна.
– Делать то, что я уже приказала швейцару, – прогнать его, и больше ничего, – сказала она.
– Янгуржеева нельзя прогнать, ты не знаешь его!.. Если только я ему нужен, так он всюду будет меня встречать: на этом вот бульваре, на тротуаре, в обществе! Я всегда его терпеть не мог и никогда не имел силы спастись от него.
– В таком случае уедем в нашу подмосковную, – придумала Муза Николаевна.
– Но я хотел бы теперь здесь пожить; меня все приятели мои встречают с таким радушием, что мне желательно побыть между ними.
К счастию, все эти недоумения Лябьевых разрешила приехавшая к ним Аграфена Васильевна, продолжавшая по-прежнему жить в Москве с ребятишками в своем оригинальном доме (старичище, ее супруг, полгода тому назад помер). Лябьевы с первых же слов рассказали Аграфене Васильевне о визите и о письме Янгуржеева.
– Ах, он, жулик этакий, и к вам пробрался! – воскликнула она.
– А у вас он бывает? – спросил Лябьев.
– Как же!.. Сколько раз после смерти мужа наскакивал посетить меня, но я велела ему сказать, что если он будет жаловать ко мне, то я велю лакеям в шею его гонять.
– И я ему сказала через швейцара, чтобы ноги его не было у нас в доме, – подхватила Муза Николаевна, – потому что, согласитесь, Аграфена Васильевна, на все же есть мера: он довел мужа до Сибири, а когда того ссылали, не пришел даже проститься к нам, и хоть Аркадий всегда сердится за это на меня, но я прямо скажу, что в этом ужасном нашем деле он менее виноват, чем Янгуржеев.
– Ну, как же менее? – возразил Лябьев.
– Пожалуйста, хоть теперь-то не скрывай этого! Все знают, что ты только принял все на себя! – сказала с запальчивостью Муза Николаевна.
– Да этого черномазый-то и сам не скрывает! – подхватила Аграфена Васильевна. – У нас в доме хвастался: «Дураки, говорит, в воде тонут, а умные из нее сухоньки выходят!»
– Вот видите, какой он прелестный человек, – произнесла Муза Николаевна, – и после всего этого еще осмеливается писать Аркадию письма! Прочти, пожалуйста, Аграфене Васильевне письмо Янгуржеева! – прибавила она мужу.
– Что тут? Бог с ним! Все-таки человек в несчастии! – возразил на это Лябьев. – Письмо обыкновенное: пишет и просит денег взаймы.
– Нет, кроме того, он говорит, что помогал тебе и ссужал тебя; а когда и чем он тебе помогал? – горячилась Муза Николаевна.
– То есть как он мне помогал! – отвечал, усмехнувшись и покраснев немного в лице Лябьев. – Он мне советовал и даже учил меня играть наверняка, говоря, что если меня по большей части обыгрывали таким способом, так почему и мне не прибегнуть к подобному же средству.
– И как же ты после этого еще колеблешься, быть ли с ним знакомым или нет? – допрашивала Муза Николаевна.
– Я не в этом колеблюсь, – отвечал Лябьев, – но уверен только в том, что Янгуржеев от меня не отстанет.
– Как же он от тебя не отстанет? – спросила уже Аграфена Васильевна.
– А так, что поймает меня в каком-нибудь обществе; наговорит мне, может быть, любезностей, от которых трудно будет отвертеться, или, наоборот, затеет со мною ссору и наговорит мне таких дерзостей, что я должен буду вызвать его на дуэль.
– Вот это умно будет с твоей стороны, очень умно! Чтобы тебя опять в солдаты разжаловали! – воскликнула Муза Николаевна, и на ее глазах показались слезы.
– Я, конечно, этого не сделаю теперь, – поспешил ее успокоить Лябьев, – но все-таки может выйти скандал.
– Где же это он поймает тебя? – вмешалась снова в разговор Аграфена Васильевна.
– Везде я могу его встретить; он, вероятно, по-прежнему бывает всюду, – сказал Лябьев.
– Ну, нет, дяденька, это шалишь! – возразила Аграфена Васильевна. – Его теперь никуда не пускают, да ему не в чем и показаться-то прежним знакомым своим: у него сапог даже порядочных нет; по кабакам он точно что шляется. Я вот, сюда ехадчи, видела, что он завернул в полпивную, но ты по кабакам-то, чай, не ходишь?
– Слава богу, пока еще не хожу, – отвечал, усмехнувшись, Лябьев.
– Ну, так что же? Стоит ли и разговаривать об этом черномазом дьяволе? – отозвалась Аграфена Васильевна, но это она говорила не вполне искренно и втайне думала, что черномазый дьявол непременно как-нибудь пролезет к Лябьевым, и под влиянием этого беспокойства дня через два она, снова приехав к ним, узнала, к великому своему удовольствию, что Янгуржеев не являлся к Лябьевым, хотя, в сущности, тот являлся, но с ним уже без всякого доклада господам распорядился самолично унтер-офицер.
– Если вы, ваше благородие, будете шляться к нам, так вас велено свести вон тут недалеко к господину обер-полицеймейстеру, – сказал он, внушительно показав пальцем Янгуржееву на обер-полицеймейстерское крыльцо.
Калмык ни слова не возразил на это и ретировался назад, так как последнее время он сильно побаивался обер-полицеймейстера, который перед тем только выдержал его при частном доме около трех месяцев по подозрению в краже шинели в одном из клубов, в который Янгуржееву удалось как-то проникнуть.
Аграфена Васильевна нашла, впрочем, Лябьевых опечаленными другим горем. Они получили от Сусанны Николаевны письмо, коим она уведомляла, что ее бесценный Егор Егорыч скончался на корабле во время плавания около берегов Франции и что теперь она ума не приложит, как ей удастся довезти до России дорогие останки супруга, который в последние минуты своей жизни просил непременно похоронить его в Кузьмищеве, рядом с могилами отца и матери.
Доказательством тому, сколь тяжело было Сусанне Николаевне написать это письмо, служили оставшиеся на нем явные и обильные следы слез ее.
Аграфена же Васильевна это известие, с своей стороны, встретила почти до неприличия равнодушно.
– Ну, бог с ним!.. Что тут старикам самим маяться и других маять! – проговорила она.
– Мы, конечно, – сказала Муза Николаевна, – не столько о смерти Егора Егорыча сокрушаемся, сколько о Сусанне, которая теперь должна везти гроб из этакой дали.
– Что ж за важность, довезет! – сказала и на это совершенно безучастно Аграфена Васильевна. – Я так тело-то моего благоверного на почтовых отмахала в Тулу, чтобы похоронить его тоже в селе нашем.
– Что это, Аграфена Васильевна, вы говорите?.. Как это возможно: на почтовых?.. – заметила, грустно усмехнувшись, Муза Николаевна.
– Право, на почтовых! Ничего, всю дорогу лежал благополучным манером; живой-то, бывало, часто ругался, а тут нишкнет, смирнехонек.
– Вам это легче было сделать, потому что вы долго пожили с вашим мужем, поразлюбили его, конечно, а Сусанна только что не боготворила Егора Егорыча, – разъясняла Муза Николаевна.
– О, подите-ка вы! – возразила ей с досадой Аграфена Васильевна. – Боготворила его она!.. Этакого старого сморчка!.. Теперь это дело прошлое, значит, говорить можно, а я знаю наверное, что она любила Петрушу Углакова.
– Это правда, что у нее немножко кружилась от него голова, – согласилась Муза Николаевна, но разве можно это назвать любовью?
– А что ж это такое, по-вашему? – стояла на своем Аграфена Васильевна. – Робела только очень, а как бы посмелее была, так другое бы случилось; теперь бы, может быть, бедняжка Петруша не лежал в сырой земле!
– Не от Сусанны же, в самом деле, он помер; это будет безбожная клевета на сестру! – возразила с досадой Муза Николаевна.
– От нее ли или от чего другого, только начал пить да пить; а ведь этот хмельной богатырь хоть кого сломит.
– Пить он начал никак не по милости сестры, потому что пил еще прежде! – оспаривала Муза Николаевна. – Кроме того, у него другая привязанность была, которая, говорят, точно что измучила его.
– Это что за привязанность! Он держал ее, чтобы только размыкать горе; говорить тут нечего: все вы, барыни, как-то на это нежалостливы; вам бы самим было хорошо да наряжаться было бы во что, а там хошь трава не расти – есть ли около вас, кого вы любите, али нет, вам все равно! Мы, цыганки, горячее вас сердцем: любить, так уж любить без оглядки. Недаром ваши мужчины нас хвалят больше, чем вас… Сколько мне тоже говорили: «Что, говорит, наши барыни? Это квашенки крупичатые, а вы, говорит, железо каленое». Так я сказываю, а? – заключила Аграфена Васильевна, обращаясь к Лябьеву.
– Пожалуй, что и так! – отвечал тот.
При подобном разговоре Муза Николаевна, разумеется, могла только краснеть.
Невдолге после того для упомянутого мною швейцара выпало опять щекотливое объяснение с одним из незнакомых ему посетителей, который, пожалуй бы, и не простому солдату мог внушить недоумение. Во-первых, это был как бы монах, в скуфье и в одном подряснике, перетянутом широким кожаным поясом; его значительно поседевшие волосы были, видимо, недавно стрижены и не вполне еще отросли, и вместе с тем на шее у него висел орден Станислава, а на груди красовались Анна и две медали, турецкой и польской кампаний. Подозрительный страж предположил, что это был какой-нибудь мошенник и нарочно так нарядился, а потому он спросил этого странного посетителя по своей манере довольно грубо:

