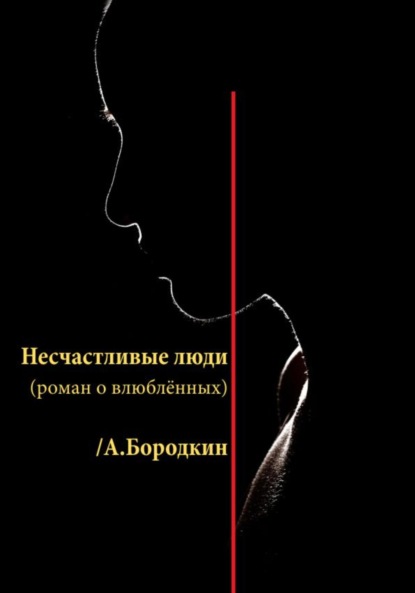По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Несчастливые люди
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полубесок похлебал пельменей. Часто останавливался, поглядывал на картину, хмурился. Николай Дмитриевич понял, что идёт противостояние художник—картина.
Спросил:
– А лотерейный билет?
– А что лотерейный билет? – Полубесок оторвался от кастрюльки. – Чепуха это. Шутка. Розыгрыш.
– Что значит, розыгрыш? Не понимаю.
– Да нечего и понимать. Аркашка уже порядочно нализался, потребовал вальс, содрал с Пахеля галстук, двинул его по морде… стал уверять, что и вовсе набьёт ему лицо… смех, да и только.
– Кто такой Пахель, – вопросил Николай Дмитриевич.
– Ну, Пахель… – Полубесок несколько раз сжал и разжал кулак на вытянутой руке, словно сдавливая в нём губку или жменю незрелого сыра. – Как тебе объяснить… Индир Пахель – он везде. И всегда. Он нужен для удовольствия и размножения, неизбывен, как вши. Он работает на телевидении. У него стереофонический магнитофон и свежие записи.
Вверху что-то лязгнуло, крепко и массивно, будто проломилась кровля… потом по заиндевевшей шкуре затылка прокатился комок – громкий и колкий… жгучий, словно крапива… Николай Дмитриевич инстинктивно втянул голову в плечи и пригнулся, поглядывая в потолок. Полубесок успокоил, сказал, что опасности нет, что это с антенны оторвался кусок льда и покатился по крыше:
– Металлом крытая, – усмехнулся. – Медь и сталь. Позапрошлый надёжный век.
В полусекундной паузе, художник ещё раз стрельнул зрачками на картину, сказал, что гость его утомил:
– Тебе не пора домой, дядя? Ты назойлив.
– Я уйду, – обещал Николай Дмитриевич. – Только расскажи по билет. Просто расскажи, чтобы я знал. Правду расскажи.
– Ах, ты боже мой! – огорчился Полубесок, опять закудахтал по карманам в поисках курева. – Я ж тебе уже говорил. Это шутка. Аркашка напился, лапал девчонок за талии. Как раз пришел Генка Легкоступов с полиграфкомбината, принёс кипу газет. Аркадий выкрикнул, что всех нас удивит, сказал, что у него лотерейный билет на десять тысяч.
– Допустим.
– Не перебивай— Полубесок погрозил пальцем. – Нервируешь.
Продолжил:
– В "Известиях" напечатали таблицу. Я взял у Аркашки его лотерейку, а самого отправил танцевать.
– Становится интересно.
– Ещё бы! – огрызнулся Полубесок. – Дальше не ухватываешь?
– Нет.
– Тогда поясняю. Лотерейный билет оканчивался на две восьмёрки. У Аркашки, понимаешь? Две восьмёрки! А в газете пропечатали две тройки. Оцени кульбит рока, насмешку судьбы!
– И что?
Полубесок выпил через край остатки бульона из кастрюльки. С тоской осмотрелся по сторонам.
– Вот не люблю я говорить людям грубости, дядя, но ты тупой. Унизительно тупой! Я взял перо и подправил! Чего же проще? Чего же боле, как говорил Пушкин. Из троек смастырил восьмёрки!
Николай Дмитриевич сказал, что такое невозможно.
– Невозможно? – художник усмехнулся. – Да, запросто. Я пять лет в театре афиши рисовал. Без линейки и без опоры нарисую тебе прямую линию – в струну! Без задоринки. Рука тверда, и танки наши быстры.
– А зачем?
– Ты про билет?
– Ага.
– Философские вопросы задаёшь! Во-первых, я пошутить хотел. Обрадовать. Взбодрить публику. Десять тысяч рублей всегда выглядят победоносно, согласись… и даже, если ты проигрался в пух на десять тысяч.
– Сомнительно. А во-вторых?
– Во-вторых?..
Полубесок вытряхнул из пакета горсть мёрзлых ягод – они бойко разбежались по столу. Одну из них художник поймал и приплюснул… из-под пальцев брызнула кровь.
– Когда я был молодым, я видел цель и не замечал препятствий. Двигался напролом.
Николай Дмитриевич согласился, сказал, что все молодые так поступали и поступают.
– Теперь я понимаю, что всякий "пролом" калечит судьбы… верно?… и меня это жмёт. На грудь давит. Вот возьми твой Аркашка… тысячу раз я ему говорил: радуйся! Радуйся, придурок! Радуйся, титька тараканья! Живёшь с Лидухой и радуйся! Чего ты рылом вертишь, словно закормленный поросёнок? Добротная ведь баба, покорная, нежная. Она ведь его любит, как святого, не надышится.
– Лидка?
– Ну, не я же! – огрызнулся художник. – Я подумал, что билет с деньгами он домой принесёт, как отец семейства, и… и что-то сдвинется… лёд меж ними растает.
– А он?
– Он!.. хм… он запал на Афину.
– А что Афина?
– А что Афина?
– Понятия не имею, у тебя спрашиваю.
– Афине он нужен, не более, чем рыбе зонтик, – ответил Полубесок. – Если хочешь, поговори с ней. Она в ТЮЗе работает. Прима. Прима! Не фунт изюму.
Полубесок опять, будто в забытьи, охлопал карманы, от картины перевёл взгляд за сумеречное окно, притих… Потом вдруг вернул своё внимание собеседнику, заговорил с неожиданным жаром:
– Ты послушай вот что. Как думаешь, куда он побежал? Не за молоком, не за квасом, не винишка побёг купить, а куда? Какая сила его влечёт?
Николай Дмитриевич слегка опешил, обнаруживая в глазах собеседника неожиданную совершеннейшую безумь… коя бывает в глазах шизофреников, например… или… или… а других душевнобольных Николай Дмитриевич не встречал.
– Я не знаю, – ответил медленно, с расстановкой, – видимо бежит в Миру такой-то невидимый поток… – проговаривал, стараясь попасть в настроение художника, – который несёт нас и толкает на поступки.
– Я тоже так думаю! – согласился Полубесок. – Возьмём Афину, вообрази себе яркий персонаж! Женщина! Фемина! Во всех смыслах приличной наружности. Завистливой…. в смысле, вызывающей зависть. А характер – стервозный.