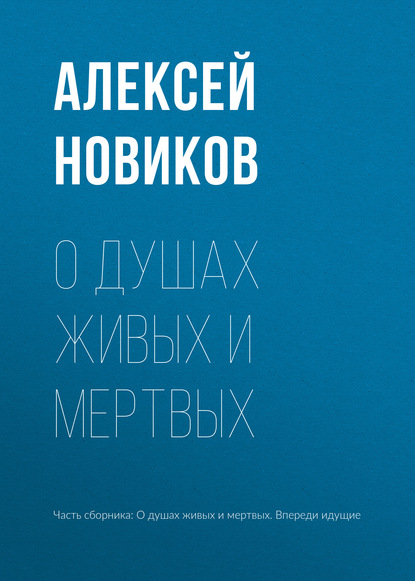По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О душах живых и мертвых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Княгиня принимает?
– Пожалуйте в гостиную.
Знакомая голубая гостиная. Ее голубой фон так идет к золотистым кудрям хозяйки. Впрочем, она никогда не кокетничает и ничего не делает с холодным расчетом. Юная украинская дева быстро превратилась в петербургскую княгиню. И еще быстрее стала вдовой. Одни считают ее красавицей, другие утверждают, что она совсем нехороша. Последнее говорят люди, которые не знают другой красоты, кроме той, которая удостоверена мнением всего света. Они не знают силы того обаяния, которое превращает женщину в красавицу.
Мнения о Машеньке Щербатовой вообще расходились. Одни считали ее умной, другие – глупышкой. Столь резкое расхождение происходило, очевидно, потому, что каждый по-своему оценивал удивительное простосердечие, которое так редко встречается в княжеских гостиных.
Михаил Юрьевич сидел в голубой гостиной и ждал. Прошло больше десяти минут. Хозяйка медлила. Гость встал и, расхаживая по гостиной, так ушел в свои думы, что Мария Алексеевна, неслышно появившись, должна была его окликнуть.
– Я знала, что вы придете.
– Я получил вашу записку.
– А если бы я не писала к вам?
– Мои визиты после печальной дуэли могут только компрометировать вас в глазах света, – Лермонтов говорил сдержанно, почти сурово.
– О, светские цепи не для меня! – Княгиня подняла на гостя глаза, синие, как небо Украины. – Я боюсь другого, Михаил Юрьевич.
– Ручаюсь, что господин де Барант не посмеет больше вас тревожить.
– Какой вы плохой отгадчик! А я не гожусь в дипломатки. – Княгиня помедлила, смущаясь. – Я боюсь, Мишель, – сказала она тихо, – что вы дурно думаете обо мне.
– Прошу вас, не мучьте себя. – Он коснулся ее руки.
– Не могу… Хотя и понимаю, что для меня нет надежды. – Она печально поникла головой.
Гость молчал. Он решительно не знал, как утешить ее печаль, и проклинал свое молчание.
– Вы помните, – сказала Щербатова, – когда-то я давала вам совет: если настанет трудная минута, молитесь!
– Я помню все, Мари! Хотя по-прежнему не умею тревожить всевышнего моими докуками.
– И вот теперь, – продолжала хозяйка дома, – я молюсь и повторяю ваши строки:
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Мне и верится и плачется, – повторила она. – Только…
– Что «только», Мари?
– Сомнение, Мишель, никуда не уходит. Тогда я отдаюсь этому жестокому сомнению и думаю. Когда вы так решительно встали на пути Эрнеста де Баранта и, словно угадав мою мольбу, берегли меня от его назойливости, скажите, что руководило вами? Я никогда не повторю этого вопроса, я приму любой ответ. Если хотите, я сейчас же его забуду, только ответьте мне, какое чувство побуждало вас?
– Если есть вопросы, Мари, которые трудно задавать, то ответить на них бывает еще труднее. Мы часто знаем о себе меньше, чем о других, и легко принимаем правду за ложь.
– Ложь? – переспросила она. Глаза ее потемнели, голос дрогнул.
– Нет, нет, вы не поняли меня, Мари! Клянусь, я никогда вам не лгал. Но тем хуже для меня, если я причинил вам горе.
– Теперь вы не поняли меня, – твердо сказала Мария Алексеевна. – Вы ни в чем передо мной не виноваты. Никто не властен над чувством, никто не виноват в том, что пробудит это чувство в другом. Я хотела сказать и не раскаиваюсь в своих словах: никто не виноват, если пробудит, не желая того, чувство женщины… Теперь мы объяснились, Мишель. Впрочем, не нужно притворства, вы давно разгадали мою тайну. Не так ли?
Надо было отвечать, но он не мог обидеть ее сердечную доверчивость. Бережная нежность всегда пробуждалась в нем, когда он говорил с этой женщиной.
– Мари, – сказал поэт, – вы не открыли мне тайны. Но я не хочу ничего от вас скрывать. Увы, мне нечем отплатить вам.
Снова настало молчание. Машенька Щербатова прощалась с теми надеждами, которыми жило ее сердце.
– Останемся же друзьями, Мишель! – твердо сказала она и, не сдержав порыва, протянула ему руки и не отняла, когда он почтительно их поцеловал.
Он был благодарен ей за эту мужественную простоту, за то, что она не плакала.
Нет, Мари не плакала. Она не уронила ни слезинки и с непринужденностью, которая бог знает чего стоила ей, спросила:
– Надеюсь, история вашей дуэли погребена навеки?
– Как знать? – отвечал поэт, глядя на нее с затаенной печалью. Открыв ей правду, отрезающую все пути к ее сердцу, он вдруг почувствовал горечь утраты. – Но повторяю вам, надо взять все меры осторожности. Заклинаю вас, уезжайте из Петербурга!
– Зачем?
– Если история откроется, могут впутать ваше имя.
– Я этого не боюсь.
– Меня уже не раз предостерегали, Мари, что госпожа Бахерахт болтает о дуэли и виновницей ее называет именно вас.
– Бог ей судья.
– Бог! – повторил поэт. – Ваша детская вера не остановит хулы. Где вы живете, Мари? В Аркадии или в нашем беспощадном свете?
– Я сумею перенести и насмешки и зло. Для этого у меня хватит гордости, Мишель.
– Так вот вы какая! – воскликнул он, любуясь ею. – Вот какая вы, Мари!
– А вы не знали? Полноте! Не на балах, а в несчастье можно узнать женщину. Разве не так, друг мой?
Она подавила глубокий вздох: ей первый раз пришлось так назвать его.
– И вы никуда не уедете? – спросил поэт. – А если против вас поднимется весь свет, если господин де Барант первый будет на вас клеветать?
– И если даже госпожа Бахерахт начнет против меня свои интриги, – спокойно сказала Щербатова. – А ведь вы, наверное, знаете, что женщины гораздо опаснее в этом случае, чем мужчины.
– Но если я, Мари, буду умолять вас уехать?
– Зачем?