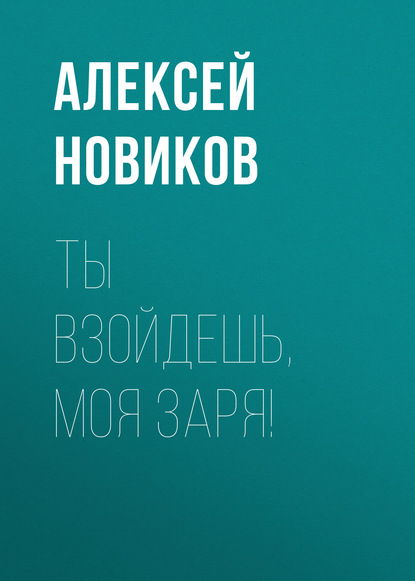По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ты взойдешь, моя заря!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бедный певец!
Поля слушала со слезами на глазах. Соболевский пристально глядел на певца. По мере того, как развивался романс, он стал поглядывать на Глинку вопросительно.
– Я ничего не понимаю в музыке, – заговорил Соболевский, когда звуки смолкли, – но всем сердцем чувствую, что твое создание прекрасно, однакоже…
– Однакоже? – быстро переспросил Глинка.
– Изволь, скажу. Ты излил в звуках ту печаль, которой полнится сейчас каждое честное сердце на Руси. Каждый мыслящий человек поймет тебя: да, могильной тишиной объята родина. Точно, погибло все! Могильщики схоронили наши лучшие надежды. Но не истолкуют ли твою музыку как память о тех певцах, которые ждут сейчас решения своей участи?
– Кого ты разумеешь? – Глинка испытующе посмотрел на Соболевского.
– Не тебе ли лучше знать тех, кто томится в казематах? – отвечал Соболевский.
– А… – протянул Глинка и совсем близко подошел к зятю. – Чудак ты, Яков! Какое же отношение могут иметь к ним стихи почтеннейшего из стихотворцев – Жуковского? На него и сошлюсь в опровержение твоей мысли.
– А коли ты заранее опровержение готовишь, значит я трижды прав?
Глинка молча ходил по комнате.
– Так неужто ты заподозрил мою музыку в сочувствии тем, кому даже сочувствовать запрещено? – спросил он после долгой паузы.
– Еще бы! – подтвердил Соболевский. – Но ты сделал ловкий ход, лукавый дипломат. Конечно, сановный стихотворец никак не повинен в сочувствии к певцам, томящимся в узилище. Но смотри, как бы тебя не перехитрили в твоей хитрости.
– Но что же делать, Яков Михайлович? – отвечал Глинка. – Хочу того или не хочу, не согласна музыка моя жить вдали от земных наших дел. И не страшно ли было бы безмолвие наше, когда приказывают нам молчать?
– Мудреное дело затеял, Михаил Иванович! Кто рискнет сейчас говорить о тех, кто пережил крушение всех надежд и гибнет за народ, оставаясь неведомым народу? Мы бессильны, – печально заключил Соболевский, – и можем только проклинать свое бессилие.
– Не клевещи, – сурово сказал Глинка. – Не бессильна нация, на твоих глазах свергнувшая Бонапарта.
– То нация, а то мы, – Соболевский вздохнул. – Слышал, как платят сейчас неповинному селянину за пережитые зимой страхи? Сам, поди, знаешь, как безудержна дворянская алчность в поборах. И любой кровопийца прав. Всякую жалобу тотчас к бунту приравняют и до тех пор не успокоятся, пока не сведут несчастного со света! А вот тебе еще пример. Ну, представь, позовут тебя куда надо да поставят вопросные пункты: объясните, мол, и со всей подробностью, кого именно имели вы в виду, сочиняя музыкальную пьесу вашу «Бедный певец»? Что ты тогда скажешь?
– Ну что ж, тогда объясню, – Глинка хитро прищурился, – что по романтическому своему устройству люблю поплакать над меланхолическими стихами… Разве возбраняется хотя бы и титулярному советнику пролить слезу на стих, одобренный начальством?
– Значит, пасуешь? – спросил Соболевский.
– Лучше до времени отступить, чем без времени погибнуть. Не дока я в тактике и фортификации, думаю, однако, что каждая позиция хороша, если может с пользой от неприятеля укрыть. Не тому ли учит нас недавнее? Трудно, Яков Михайлович, в безутешное время жить, но и бездействие было бы хуже смерти.
Разговор затянулся до поздней ночи. Поля задремала, склонившись к мужу, и вдруг, вскрикнув, проснулась.
– Что с тобой? – встревожился Яков Михайлович.
Поля сидела бледная. На лбу выступила испарина.
Едва владея собой, она опять прибегла к хитрости.
– Приснилось что-то, – сказала она, с трудом улыбаясь. – Милые вы мои, если бы нам никогда не разлучаться… Ты погостишь у нас, Мишель?
– Денек-другой, хоть гони, не уеду!
– Спасибо! И за песню твою тоже… Господи, неужто никто не заступится за несчастных? – И она ласково обняла и поцеловала брата.
Вернувшись в Новоспасское, Глинка продолжал свои занятия. Евгения Андреевна внимательно за ним наблюдала. А сын – так повелось теперь – ей первой играл и пел свои новые сочинения.
Однажды он исполнил «Бедного певца».
Дослушав романс до конца, Евгения Андреевна спросила:
– Неужто это и есть то главное, что ты искал и нашел в могиле?
– Нимало, маменька! Сам на себя удивляюсь: что сейчас ни произведу, везде непременно объявится наше безвременье. Только собирался идти вслед за поэтом, да каким поэтом! И опять с Василием Андреевичем разошелся. Куда он, господин Жуковский, приглашает? К покою зовет? К примирению со смертью? Одним словом, к сладкому забвению? А музыка покоя не хочет. Она, как песня, к будущему бежит. Она малодушных пробудит! Понятна ли вам, маменька, сия внутренняя музыка?
Евгения Андреевна, как ни старалась, плохо понимала. А сын, отдохнув, уходил к себе и тянулся к новому нотному листу…
В то время Александр Пушкин уже подал руку музе, и она сошла с парнасских высот в российские селения. Муза, ведомая за руку поэтом, побывала в деревне и встретилась с пахарем. Муза посетила сельскую усадьбу Лариных. Она дерзнула заглянуть и в древние чертоги царя Бориса и на Красной площади стала неразлучна с народом. Муза, доверившись Александру Пушкину, не собиралась возвращаться на Парнас и все больше заявляла права на то, чтобы стать россиянкой. Поэзия обрела свое отечество. Только сам поэт оставался в опале.
А в Новоспасском сидел помощник секретаря из ведомства путей сообщения и задавал музыке новые задачи. Хотел, чтобы музыка тоже перестала быть безродной, и звал ее на битву.
Так сидел он в Новоспасском и, исписав один нотный лист, тянулся к другому.
А по службе истекала одна отсрочка за другой.
«Не пропадет ваш скорбный труд…»
Глава первая
Лето 1826 года было сухое и знойное. Под Петербургом горели леса. Едкий запах гари достигал столичных улиц, проникал в окна и рождал в городе смутное ощущение тревоги.
Истомленные люди ждали вечерней прохлады, но к вечеру еще более раскаленным становился недвижимый воздух. Над Невой медленно клубились зловещие дымки, и сквозь эту плывущую завесу угрюмо выступали бастионы Петропавловской крепости. Даже златокрылый ангел, глядящийся с крепостного шпица в стремнину невских вод, был едва видим в этот час. И печальный звон курантов, едва родившись, угасал в сумрачной тишине.
Но под утро в крепости начиналось стремительное движение. Из ворот одна за другой выезжали щегольские кареты и, гулко стуча по мостовой, торопливо исчезали в безлюдных улицах. Златокрылый ангел равнодушно смотрел им вслед, и снова играли крепостные куранты, а над городом вставало багровое солнце.
Казалось, с воцарением императора Николая порядок торжествовал во всем. Только вокруг столицы горели леса да в крепости шел розыск о бунте. Там все дольше и дольше задерживались по ночам усердные следователи.
Между тем с заговорщиками надо было торопиться. Его величеству надлежало приступить к священному коронованию, а прежде того следовало избавиться и от северных и от южных «друзей 14 декабря».
Напрасно император выпячивал грудь и покрикивал фельдфебельским басом, напрасно утешал себя тем, что под золотым крылом ангела-хранителя собраны в крепости все, кто посягал на бунт или сочувствовал бунтовщикам. Страх, испытанный монархом в день восшествия на прародительский престол, так и не проходил. Ему верилось, что он избавится от этого страха лишь в тот день, когда… Словом, с заговорщиками надо было торопиться!
Все позже выезжали из крепости кареты сановных следователей. А днем столица жила обычной жизнью. В церквах молились, в лавках торговали, в присутствиях скрипели перья.
Пооглядевшись на престоле, император занялся неотложными преобразованиями. Склонный к чувствительности, он собственноручно вручил жандарму Бенкендорфу тончайший батистовый платок, дабы утирать слезы несчастным. Тогда, не затрудняя жандармов лишней работой, догадливо самозакрылось общество любителей российской словесности.
Даже в театральном партере не осталось былых шумных партий. Уподобясь одному из персонажей запретной комедии о Чацком, венценосец объявил, что водевиль есть вещь, а все прочее гиль! Театры перешли на водевиль, артисты пели куплеты, публика аплодировала. Но и в театральный зал проникал едкий запах дальних пожарищ.
А преобразования шли своим чередом. Император, обещавший еще до восшествия на престол вогнать в чахотку всех философов, ныне вспомнил об университетах. Приказано было преобразовать их наподобие учебных полковых команд.
Объединенные чины разных ведомств трудились над сочинением нового устава о цензуре. Устав должен был противостоять натиску нравственного разврата, известного под кратким именем «духа времени». Для искоренения этого духа цензоры должны были наблюдать, чтобы в произведениях словесности сохранялась чистая нравственность, но отнюдь не заменялась одними красотами воображения. «Вольнодумство и неверие, – гласил устав, – не должны употребить какую-либо книгу орудием к колебанию умов».
Император перечитал параграфы устава и размашистой подписью утвердил. В помощь цензуре для борьбы с «духом времени» призваны были все ведомства.
Поля слушала со слезами на глазах. Соболевский пристально глядел на певца. По мере того, как развивался романс, он стал поглядывать на Глинку вопросительно.
– Я ничего не понимаю в музыке, – заговорил Соболевский, когда звуки смолкли, – но всем сердцем чувствую, что твое создание прекрасно, однакоже…
– Однакоже? – быстро переспросил Глинка.
– Изволь, скажу. Ты излил в звуках ту печаль, которой полнится сейчас каждое честное сердце на Руси. Каждый мыслящий человек поймет тебя: да, могильной тишиной объята родина. Точно, погибло все! Могильщики схоронили наши лучшие надежды. Но не истолкуют ли твою музыку как память о тех певцах, которые ждут сейчас решения своей участи?
– Кого ты разумеешь? – Глинка испытующе посмотрел на Соболевского.
– Не тебе ли лучше знать тех, кто томится в казематах? – отвечал Соболевский.
– А… – протянул Глинка и совсем близко подошел к зятю. – Чудак ты, Яков! Какое же отношение могут иметь к ним стихи почтеннейшего из стихотворцев – Жуковского? На него и сошлюсь в опровержение твоей мысли.
– А коли ты заранее опровержение готовишь, значит я трижды прав?
Глинка молча ходил по комнате.
– Так неужто ты заподозрил мою музыку в сочувствии тем, кому даже сочувствовать запрещено? – спросил он после долгой паузы.
– Еще бы! – подтвердил Соболевский. – Но ты сделал ловкий ход, лукавый дипломат. Конечно, сановный стихотворец никак не повинен в сочувствии к певцам, томящимся в узилище. Но смотри, как бы тебя не перехитрили в твоей хитрости.
– Но что же делать, Яков Михайлович? – отвечал Глинка. – Хочу того или не хочу, не согласна музыка моя жить вдали от земных наших дел. И не страшно ли было бы безмолвие наше, когда приказывают нам молчать?
– Мудреное дело затеял, Михаил Иванович! Кто рискнет сейчас говорить о тех, кто пережил крушение всех надежд и гибнет за народ, оставаясь неведомым народу? Мы бессильны, – печально заключил Соболевский, – и можем только проклинать свое бессилие.
– Не клевещи, – сурово сказал Глинка. – Не бессильна нация, на твоих глазах свергнувшая Бонапарта.
– То нация, а то мы, – Соболевский вздохнул. – Слышал, как платят сейчас неповинному селянину за пережитые зимой страхи? Сам, поди, знаешь, как безудержна дворянская алчность в поборах. И любой кровопийца прав. Всякую жалобу тотчас к бунту приравняют и до тех пор не успокоятся, пока не сведут несчастного со света! А вот тебе еще пример. Ну, представь, позовут тебя куда надо да поставят вопросные пункты: объясните, мол, и со всей подробностью, кого именно имели вы в виду, сочиняя музыкальную пьесу вашу «Бедный певец»? Что ты тогда скажешь?
– Ну что ж, тогда объясню, – Глинка хитро прищурился, – что по романтическому своему устройству люблю поплакать над меланхолическими стихами… Разве возбраняется хотя бы и титулярному советнику пролить слезу на стих, одобренный начальством?
– Значит, пасуешь? – спросил Соболевский.
– Лучше до времени отступить, чем без времени погибнуть. Не дока я в тактике и фортификации, думаю, однако, что каждая позиция хороша, если может с пользой от неприятеля укрыть. Не тому ли учит нас недавнее? Трудно, Яков Михайлович, в безутешное время жить, но и бездействие было бы хуже смерти.
Разговор затянулся до поздней ночи. Поля задремала, склонившись к мужу, и вдруг, вскрикнув, проснулась.
– Что с тобой? – встревожился Яков Михайлович.
Поля сидела бледная. На лбу выступила испарина.
Едва владея собой, она опять прибегла к хитрости.
– Приснилось что-то, – сказала она, с трудом улыбаясь. – Милые вы мои, если бы нам никогда не разлучаться… Ты погостишь у нас, Мишель?
– Денек-другой, хоть гони, не уеду!
– Спасибо! И за песню твою тоже… Господи, неужто никто не заступится за несчастных? – И она ласково обняла и поцеловала брата.
Вернувшись в Новоспасское, Глинка продолжал свои занятия. Евгения Андреевна внимательно за ним наблюдала. А сын – так повелось теперь – ей первой играл и пел свои новые сочинения.
Однажды он исполнил «Бедного певца».
Дослушав романс до конца, Евгения Андреевна спросила:
– Неужто это и есть то главное, что ты искал и нашел в могиле?
– Нимало, маменька! Сам на себя удивляюсь: что сейчас ни произведу, везде непременно объявится наше безвременье. Только собирался идти вслед за поэтом, да каким поэтом! И опять с Василием Андреевичем разошелся. Куда он, господин Жуковский, приглашает? К покою зовет? К примирению со смертью? Одним словом, к сладкому забвению? А музыка покоя не хочет. Она, как песня, к будущему бежит. Она малодушных пробудит! Понятна ли вам, маменька, сия внутренняя музыка?
Евгения Андреевна, как ни старалась, плохо понимала. А сын, отдохнув, уходил к себе и тянулся к новому нотному листу…
В то время Александр Пушкин уже подал руку музе, и она сошла с парнасских высот в российские селения. Муза, ведомая за руку поэтом, побывала в деревне и встретилась с пахарем. Муза посетила сельскую усадьбу Лариных. Она дерзнула заглянуть и в древние чертоги царя Бориса и на Красной площади стала неразлучна с народом. Муза, доверившись Александру Пушкину, не собиралась возвращаться на Парнас и все больше заявляла права на то, чтобы стать россиянкой. Поэзия обрела свое отечество. Только сам поэт оставался в опале.
А в Новоспасском сидел помощник секретаря из ведомства путей сообщения и задавал музыке новые задачи. Хотел, чтобы музыка тоже перестала быть безродной, и звал ее на битву.
Так сидел он в Новоспасском и, исписав один нотный лист, тянулся к другому.
А по службе истекала одна отсрочка за другой.
«Не пропадет ваш скорбный труд…»
Глава первая
Лето 1826 года было сухое и знойное. Под Петербургом горели леса. Едкий запах гари достигал столичных улиц, проникал в окна и рождал в городе смутное ощущение тревоги.
Истомленные люди ждали вечерней прохлады, но к вечеру еще более раскаленным становился недвижимый воздух. Над Невой медленно клубились зловещие дымки, и сквозь эту плывущую завесу угрюмо выступали бастионы Петропавловской крепости. Даже златокрылый ангел, глядящийся с крепостного шпица в стремнину невских вод, был едва видим в этот час. И печальный звон курантов, едва родившись, угасал в сумрачной тишине.
Но под утро в крепости начиналось стремительное движение. Из ворот одна за другой выезжали щегольские кареты и, гулко стуча по мостовой, торопливо исчезали в безлюдных улицах. Златокрылый ангел равнодушно смотрел им вслед, и снова играли крепостные куранты, а над городом вставало багровое солнце.
Казалось, с воцарением императора Николая порядок торжествовал во всем. Только вокруг столицы горели леса да в крепости шел розыск о бунте. Там все дольше и дольше задерживались по ночам усердные следователи.
Между тем с заговорщиками надо было торопиться. Его величеству надлежало приступить к священному коронованию, а прежде того следовало избавиться и от северных и от южных «друзей 14 декабря».
Напрасно император выпячивал грудь и покрикивал фельдфебельским басом, напрасно утешал себя тем, что под золотым крылом ангела-хранителя собраны в крепости все, кто посягал на бунт или сочувствовал бунтовщикам. Страх, испытанный монархом в день восшествия на прародительский престол, так и не проходил. Ему верилось, что он избавится от этого страха лишь в тот день, когда… Словом, с заговорщиками надо было торопиться!
Все позже выезжали из крепости кареты сановных следователей. А днем столица жила обычной жизнью. В церквах молились, в лавках торговали, в присутствиях скрипели перья.
Пооглядевшись на престоле, император занялся неотложными преобразованиями. Склонный к чувствительности, он собственноручно вручил жандарму Бенкендорфу тончайший батистовый платок, дабы утирать слезы несчастным. Тогда, не затрудняя жандармов лишней работой, догадливо самозакрылось общество любителей российской словесности.
Даже в театральном партере не осталось былых шумных партий. Уподобясь одному из персонажей запретной комедии о Чацком, венценосец объявил, что водевиль есть вещь, а все прочее гиль! Театры перешли на водевиль, артисты пели куплеты, публика аплодировала. Но и в театральный зал проникал едкий запах дальних пожарищ.
А преобразования шли своим чередом. Император, обещавший еще до восшествия на престол вогнать в чахотку всех философов, ныне вспомнил об университетах. Приказано было преобразовать их наподобие учебных полковых команд.
Объединенные чины разных ведомств трудились над сочинением нового устава о цензуре. Устав должен был противостоять натиску нравственного разврата, известного под кратким именем «духа времени». Для искоренения этого духа цензоры должны были наблюдать, чтобы в произведениях словесности сохранялась чистая нравственность, но отнюдь не заменялась одними красотами воображения. «Вольнодумство и неверие, – гласил устав, – не должны употребить какую-либо книгу орудием к колебанию умов».
Император перечитал параграфы устава и размашистой подписью утвердил. В помощь цензуре для борьбы с «духом времени» призваны были все ведомства.