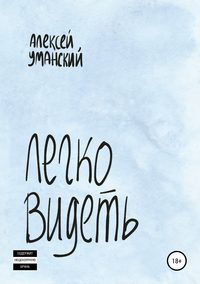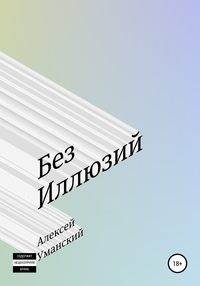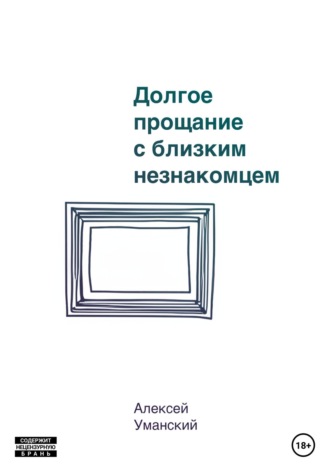
Долгое прощание с близким незнакомцем
– Вы хотите сказать – в этой природной аномалии?
– Да, так, пожалуй, будет точнее.
– Что ж, от Вас у меня нет секретов. Никогда еще дама, обитающая в этом роскошном прекрасном замке, не распускалась столь пышной розой, как теперь. Ее прелести увеличились стократно. В основном я имею в виду их притягательность, а не только величину.
– Ах, вот чему она обязана!
– Да, разумеется! Я ведь только начал! Но готов доказывать и дальше – всю ночь напролет!
– Вот что я Вам скажу! – услышал я. – Вы очень самонадеянны, сэр!
– Напротив, мэм. Почтительнейшим образом прошу Вас сделать мне честь!
– Сделать Вам честь? А что сделаете для меня Вы?
– Все, на что способен, миледи! Я мечтаю со всей страстью послужить вам! Отблагодарить вас!
Неожиданно обнаружилось, что отрабатывать старые долги, которые уже не надеялся отдать, может быть приятно не только в моральном смысле, но и в физическом. Вика ведь немало для меня постаралась – пусть не самым разумным образом, зато по-женски искренне и страстно, пусть давя на меня, но сделавши в то же время больше, чем какая-либо другая женщина в моей жизни. Нет, что ни говори, в этом смысле я был ее должником и теперь наконец мог ей отдавать, отдавать и отдавать, пока она когда-нибудь не скажет «хватит, ты больше мне ничего не должен». Или она никогда не захочет такое сказать?
III
Я не успел соскучиться по Люде. Но неожиданно рано соскучилась она. В Ярославле ей почему-то стало неспокойно, и вместо недели она провела там только три дня. Я подумал, что телепатические каналы все-таки существуют, а доступ к ним имеют не только особо одаренные люди. Короче, она прилетела ко мне, но никого не застала, и то ли в качестве компенсации за неправедные подозрения, то ли потому, что за три дня сама стосковалась, постаралась устроить мне фестиваль, в котором я (какое дивное совпадение!) снова получил право заказывать, что мне угодно. И мне действительно захотелось воспользоваться этим и не ограничивать себя, подобно мужу, вынужденному считаться с воспитанием и моральными представлениями жены – жертвы устаревших традиций. В итоге я по-новому ощутил внутреннюю, тайную жизнь ее плоти, обычно слабо ощущаемую мужчинами, которые думают преимущественно о себе, не подозревая о том, какими бы они действительно могли быть молодцами и как много нового сами могли бы испытать, если бы знали, чтó способны вызвать в глубинных недрах, так сказать, в самом ядре женской Земли. Сравнивая двух женщин, в постелях которых я побывал с разницей в два дня, я пришел к выводу, что истовое рвение украсило их обеих. Люда, которая обычно была менее сдержанна, нежели Вика, на сей раз выигрывала не так много. Как бы то ни было, обе мои женщины, видимо, по наущению свыше, дружно напомнили мне, что мужчине в возрасте самого начала пятого десятка следует хорошо подумать, прежде чем лишать себя таких дивных удовольствий. Готовности к добровольному монашеству во мне было ноль целых ноль десятых – какие-то сотые или тысячные доли процента.
Не честнее ли сразу признать, что воздержание не пойдет на пользу ни мне, ни моей литературной работе? Если образы соблазнительных женщин (в пору долгого одиночества) целиком заполнят мой мозг, что мне тогда удастся сделать и написать? Для чего затевать само бегство? Ведь не от женщин же я собирался удрать! Только от суеты, от пьяного срама, от тех, кого не хочется видеть, – но не от женщин, нежных женщин, готовых разделить со мной ложе и в какой-то степени саму жизнь. Вот, собственно, против чего надо было нацеливать главный удар. А дальше открывалось уже много возможностей. Не обязательно поселяться в околополярных широтах или бороздить исключительно полярные моря, как бы сказочно ни звучали их названия (а ведь мировые названия, что ни говори!) – Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово… Можно поселиться в деревне – хоть на родимой Вятке, хоть на Вологодчине, как Астафьев, хоть где-нибудь под Тверью или на Беломорье. А можно, как давно мечталось, сделать яхту и ходить на ней по всей Европейской России от Белого моря, Онеги и Ладоги до Каспия и Азова, от Москвы до Камы и Уфы.
И даже не обязательно мотаться туда-сюда. Выбрать акваторию покрасивей и жить там, делая небольшие переходы в свое удовольствие и в хорошую погоду, и в штормовую, если понадобиться освежить в памяти ощущения прежних времен. А, главное, там и женщина могла бы быть со мной! Это же уму непостижимо, как здорово! Уверен, что человечество еще ничего лучшего не придумало для соединения восхитительной будуарной атмосферы с пребыванием на природе. На что многие разумные богачи и направляют свои деньги. Конечно, им доступен весь Мировой океан, любые воды, но и мне, советскому подданному, можно найти, где пожить, что посмотреть, – вплоть до Байкала, хотя возни с переправкой яхты по железной дороге через Сибирь, наверно, не оберешься. Теперь вот даже до верхней Лены можно довезти. Дорого будет, не спорю, но не дороже же, чем самолетами и вертолетами перебрасывать через всю страну груз под тонну весом, да еще и одному.
Вот только зимовать на борту почему-то не улыбалось. А, собственно, почему? Яхта, если заранее предусмотреть, да сделать все с умом, будет поуютней избушки. Поставь ее заранее, своевременно, в тихий затон, заготовь на берегу дров, растопи камелек и сиди себе пиши или думай, глядя на огонь и время от времени встречаясь глазами с женщиной. Лишь бы ей не было скучно. А для этого ей тоже надо иметь не только терпение, но и сколько-нибудь устраивающее ее занятие – вязать, читать, петь, шить, бегать с тобой на лыжах, париться в походной бане, ловить рыбу или охотиться с тобой на пару. Пожалуй, Люда для этого могла подойти после некоторой тренировки и привыкания, Вика – нет. Никакой особой тяги к природе я в ней не замечал.
Бывшую деревенскую жительницу природой не соблазнишь. Ей это на фиг не нужно. А нужно, чтобы муж был заметный в обществе человек и делал там все, что полагалось. А посему в отношениях с Викой могли иметь место только визиты по формуле, близкой к Цезаревой: пришел, поговорил, переспал. Связывать свою жизнь с ее жизнью чем-нибудь более прочным не было никакого смысла. Ни для нее, ни для меня. А с Людой – кто знает? Если я ограничусь «полуисчезновением», то Люда может и подойти, хотя полной уверенности у меня не было. С походной жизнью даже в туристской версии она так и не познакомилась, а общением с другими людьми, в отличие от меня, не пресытилась. Какая уж тут уверенность! Нет, женскую вакансию, по логике вещей, должна занять какая-то другая особа. Какая? Кого я бы мог назвать в качестве кандидатки? Сейчас, пожалуй, что никого.
Знала бы Люда об этих моих рассуждениях! Что бы она в них усмотрела: цинизм, обман? Наверно, и то и другое. Но ведь она знала, с кем связывается. Моя жизнь без странствий пока, к счастью, представляется невозможной, да и недостойной. Мои писательские занятия питаются ими и напрямую зависят от них. Все это ей известно. И нет принципиальной разницы, сколько времени мне потребуется на тот или иной поход – три месяца или год. И если она хочет быть со мной, ей надо находиться именно рядом со мной. Тогда не будет никакого обмана. Ну, а если она усмотрит цинизм, то это ее дело. В конце концов, мужчины и женщины создают семьи не только в силу взаимного притяжения любовью, но и потому, что это выгодно: и в узком, утилитарном смысле, и в самом высоком – гуманном. Нет, не возникло у меня никакого желания виниться перед женщинами, которые сами выбрали меня такого, каков я есть. Господи, только бы понять, что мне на самом-то деле нужно! Ведь не на пустом же месте образовалась потребность в женщине, хотя она и противоречит другой, давней идее – избавиться от желаний. Но сделать это, как Гаутама Будда, я не мог ни по физиологической причине, ни по причине писательского призвания, то есть желания творить. Без этого зачем было существовать?
IV
Вот я со всей серьезностью говорю о своем призвании, а могу ли честно ответить на вопрос: что мне как писателю удалось сделать?
Пожалуй, удалось уйти от подстерегающей любого геолога, ступившего на литературную стезю, «светлой романтики», иначе говоря – подлога. На самом деле, ей нет места в практической работе тех, кто старается что-то увидеть в земле и смотрит «сквозь землю». Это в какой-то степени мистическая профессия. Чистой науки здесь нет. Отчасти (отнюдь не полностью!) мне удалось показать, что работа геолога – это в решающей степени работа головой, а не мускулами.
Но вот что пока не удалось – так это сделать зримой ущербность жизни геолога. Слишком часто у него нет постоянного дома, а если и есть, то это вовсе не значит, что его там ждут. А кто целых полгода заменяет ему семью? Более или менее случайные люди. Среди них очень немного коллег, которых можно считать единоверцами, единомышленниками. В основном это сброд, в котором крупицы золота соседствуют с отбросами в обычной пропорции, о чем написал еще наш великий баснописец: «Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно». На что уходят душевные силы полевого геолога? На поддержание хрупкого порядка и работоспособности коллектива, когда уголовный элемент, почти обязательно присутствующий в каждой партии, очень хорошо сознает, что власть и милиция далеко и есть возможность кое-что урвать для себя, да еще покуражиться над начальником, отвечающим за все: за план, за людей, за сохранность имущества и государственной тайны (а как же!), за отношения рабочих партий с местным населением, за соблюдение техники безопасности. А еще у него есть оружие, которое могут украсть и из которого он сам в определенных случаях имеет право убить. Разве всего этого мало, чтобы свихнуться?
С некоторыми из геологов – и не слишком редко – так и происходит. На их глазах разворачиваются и драмы голода, и трагедии смерти – когда при переправах через бурные и холодные реки, когда в болотных топях, когда от отравлений, когда в авиакатастрофах, когда от радиации, когда от перепоя. И тогда невольно приходит на ум, что неплохо бы ему быть еще и врачом – терапевтом, хирургом, стоматологом, токсикологом, психиатром… Но он как был, так и остается обладателем походной аптечки, хранителем небольшого запаса казенного спирта и – далеко не всегда! – распорядителем ненадежной радиостанции, по которой может вызвать в свою партию авиационный «санрейс».
Много говорят о физическом износе геологов. Почти не говорят о душевных растратах. Кроме забот о партии, об отношениях с начальством из экспедиции и выше – из геологического управления, не отпускают еще гнетущие мысли о доме, о жене или любовнице: с кем они проводят время, кто помогает им выжить в изнуряющей душу и тело разлуке? Кого они предпочтут – непутевого, подолгу отсутствующего романтика или удобного, постоянно близкого человека? А что геолог-полевик может передать своим детям, коли догадался их завести? Разве что сомнительное стремление стать людьми особой породы в случае выбора профессии отца. На всю эту семейную, с позволения сказать, часть жизни геолога я и не старался пролить свет и описывать ее избегал.
А еще геолог много пьет. И хорошо, если при этом не теряет способности остановиться. Я вот не заметил, как потерял, и таких, как я, полно. Скажете: везде много пьют. Да, но не везде по тем же причинам: не для того, чтобы просто не околеть от холода в непогоду, не для того, чтобы заглушить зубную боль, когда до ближайшего врача полтысячи километров, не для того, чтобы прийти в себя после переправы вброд или вплавь в ледяной воде.
И все ненормальное в жизни геолога мешало мне писать о любви, как вообще-то подобает писателю. По существу, я сам себе запрещал касаться этой темы или, по крайне мере, глубоко в нее залезать. И не потому, что я меньше любил, или меньше страдал, или имел куда более скромную любовную практику. Главное заключалось в том, что правда была слишком болезненной, а сочинять полуправду я не хотел. Да и кто бы решился печатать такую правду? Какая-нибудь прогрессивная редакция? Дудки! За такой редакцией особенно бдительно следят цензоры самых разных мастей, в том числе и те, кого в официальной прессе называют советской общественностью. Я и без этой «общественности» знаю, что среди геологов есть счастливые супружеские пары, которых не сумело разлучить существование врозь. Можно даже сказать, что их ненормально много для такой противоестественной жизни, но не они олицетворяют участь большинства.
Однако, коли говорить все как есть о жизни геологов-мужчин, то как обойти молчанием проблемы геологов-женщин? Начать с того, насколько для них сложней выполнять обычные требования гигиены. Они тратят на это куда больше времени и сил. Хотя бы потому, что надо как-то уединиться. Часто единственная в партии женщина-геолог воплощает в себе весь женский пол в глазах изнуренных долгим воздержанием мужчин, очень разных по воспитанию и манере выражения чувств. Нередко только силой оружия она предотвращает насилие над собой, потому что одна только угроза его применения, да еще и не очень уверенная, вряд ли остановит обнаглевших распалившихся самцов. Не решится выстрелить – начнет странную жизнь с мужчиной, с которым никогда бы при иных обстоятельствах и знакомиться не стала. И уж если осуществится мечта уголовника-алкаша превратить начальницу в невольницу, то раздвоенность положения будет угнетать ее даже после того, как она привыкнет и, возможно, смирится с ролью наложницы грубого, бесцеремонного хама. Кто оценит, во что обходится женщине-геологу это «быть всегда начеку» и тем более прямой физический и нравственный ущерб? И разве найдется цензурная лазейка, чтобы опубликовать весь этот ужас?
Нет, я очень многого намеренно не касался в своих вещах, и только в «Полигонах» дал намек кое на что. Только намек! А что возгласили мои благодарные, но не больно разумные почитатели из числа коллег? Что «Полигоны» – это Библия геологов! Какая там «Библия»? Вздор! Да, там правда и, как говорится, только правда, но не вся. Я показал публике часть умалчиваемого о геологах и геологии, а к удовольствию профессионалов восславил доблесть клана, к которому они принадлежат. Вот и всё. Никаких поползновений с моей стороны на то, чтобы написать картину под названием «Геология в СССР. Человеческий аспект». И вообще я не верю, что такой художественный образ будет когда-нибудь создан, тем более мной.
Нам здесь не дадут написать о правде нашей нынешней жизни, потому что власти уже испуганы «Архипелагом ГУЛАГ» и бдят. Новый труд такого же рода – пусть даже о «свободном труде» – им не нужен. А я и близко не Солженицын. У меня другой путь, другое призвание. И если сейчас я в определенном смысле замер в раздумье на перепутье, то вовсе не потому, что хотел бы, да побаиваюсь приступить к обличению геологического «ГУЛАГа». Я не взялся бы за это дело даже при полном отсутствии риска, потому что я – не обличитель, а странник, которого больше волнует влияние природы на людей и влияние людей на природу. Существуют вещи, о которых я уверенно берусь судить как о плохих или хороших. Существуют мои собственные заблуждения (о чем я больше догадываюсь, нежели знаю). Существуют открывшиеся мне истины, в которых я никогда не усомнюсь. И среди них та, что я должен делать только собственное дело.
Самые умные люди из моих знакомых исповедовали такие же взгляды. Виталий Крылов, геолог, чукотский уникум, пришел к этому, раздумывая о путях достижения блага для всего человечества во время бесконечной осенней пурги. Его вывод был прост: всеобщее благо достижимо только в одном случае – когда каждый хорошо делает свое дело. Причем не то дело, к которому он приставлен, а то, каким должен заниматься по призванию. Георгий Маркович Зелинский – первый, кто указал на перспективы открытия промышленных запасов Чукотского золота, – придерживался сходного мнения. Только он еще больше Крылова ненавидел шагание сплоченным строем в ту сторону, куда указывают недоумки и жулики в кителях и номенклатурных костюмах. Нивелирование индивидуальных способностей людей Георгий Маркович считал одним из самых гнусных проявлений геноцида. И, подумав, я был вынужден с ним согласиться.
Кстати, именно его пример помог мне осознать еще одну истину – большинство никогда не бывает правым, когда речь идет о принятии или отвержении новой идеи, обещающей продвижение человечества вперед. «Коллективный разум» большинства такую идею на первых порах всегда обязательно отвергает. В этом смысле демократия —оплот консерватизма, а отнюдь не прогресса. Прогресс обеспечивается усилиями одиночек, силящихся сдвинуть тех, кто успокоился, с удобных насиженных мест. Этим одиночкам всегда плохо, их шельмуют и изгоняют, но они успевают хотя бы оставить после себя семя ростка, который со временем разворотит асфальт, покрывший живую почву.
Мысли на этот счет, как и Виталию Крылову, приходили мне в голову в основном в непогоду, чаще во время дождя. Пока дождь молотит по крыше палатки, но внутри сухо, а в спальнике еще и до невероятности уютно и тепло, думается особенно хорошо – о чем угодно. И о женщинах, и о работе, и о смысле жизни, и о науке и искусстве. Все это и поврозь, и вместе имеет прямое отношение к пониманию «блага», к надежде на достижение счастья, которое лично мне представлялось состоянием непрерывного нарастающего восторга сердца и ума, иными словами, души, разума и духа. Даже восторженное состояние каждой клеточки тела, казалось мне тогда, сублимируется в восторг души и уносит из материальной сферы совсем в другую, откуда мы, по всей вероятности, явились на Землю и куда, уже совсем определенно и несомненно, уйдем. Не зря же Будда, Великий Просветленный, смотрел на ведущих активную земную жизнь с нескрываемой иронией. Подобную улыбку случается видеть на лицах бывалых людей, знающих, что к чему в этом мире, когда они наблюдают «чечако», несмышленышей-новичков, в головах которых нет ничего, кроме благоглупостей и рвения к преходящим благам.
Я всю жизнь считал, что мне повезло, как мало кому, когда я оказался на Севере, на малонаселенной окраине империи. И не только потому, что успел застать там почти или даже совсем не тронутую, ошеломляюще прекрасную природу, но и потому, что был как нигде далек от многоэтажной иерархии коммунистической партии и советской власти с обязательной посредственностью и хамом во главе. Именно там, как никогда прежде, я был близок с людьми, внешне примитивными, необразованными и даже дикими, но на поверку замечательно мудрыми, искусными во всех жизненно важных делах, честными и бескорыстными – словом, достойнейшими представителями рода человеческого, к тому же снисходительными и терпеливыми в отношении тех, кто был слабее их.
И вот к этим людям я явился насаждать культуру, цивилизацию? Терпимость «дикарей» к слабости пришельцев, очень часто ставившей их на грань смерти, готовность спасти и поддержать, не только поражала, но и, честно говоря, ставила в тупик. Ну что им стоило дать чужакам загнуться при первых же столкновениях с жестокими реалиями Севера, тем более что многие из них были корыстны, нечестны и властны? Но нет, они их спасали, а, становясь жертвами агрессии, старались по возможности уйти прочь (благо было куда) и очень редко брались за оружие, хотя были храбрыми и умелыми стрелками. Разгадки этому я не знаю, если только не принять за истину предположение, что принимать превентивные меры, пользуясь главным образом оружием, им мешала такая высокая духовная культура, какой люди «цивилизованных» стран еще не достигли, хотя как будто имели для того несравненно большие возможности. Это стало для меня настоящим уроком, особенно когда предстояло решить, на что тратить силы: на то ли, чтобы достичь богатства, славы, власти над другими людьми, или на то, чтобы остаться верным исходной чистоте и стремиться к вершинам духа, терпимости и понимания других.
Моя мечта оставить цивилизацию и держаться от нее как можно дальше не в последнюю очередь объяснялась примером жизни «примитивных» народов. Правда, я уступал даже самым неумелым и слабым из них, если говорить о способности существования в диких краях, несмотря на то, что неплохо стрелял из дробовика и винтовки. Любой абориген знал неизмеримо больше: когда, кого и где надо искать и добывать, а на что бесполезно тратить драгоценные время и силы. Для них проблема транспорта, особенно острая для меня, решалась естественным образом – сооруди нарты, запряги оленей или собак и езжай куда надо. Они могли делать запасы, не используя ни соли, ни холодильников (хотя холода, за исключением двух-трех месяцев в году, всегда бывало более чем достаточно). Они могли без отвращения – и даже с особым аппетитом и без вреда здоровью, есть копáльхен (квашеную моржатину) или кислую рыбу – то есть вполне прокисший и протухший и, по европейским меркам, совершенно испорченный, не пригодный в пищу продукт. Чукотские и ламутские пастухи могли не только ездить верхом на оленях, но и пробегать в день десятки километров по кочкарной тундре. Какой спортсмен такое осилит, хотел бы я знать? Но то была самая обыкновенная необходимость – иначе потеряешь и не найдешь оленей, а без них потеряешь возможность существовать.
Изделия из непрочного оленьего меха хороши с точки зрения сохранения тепла. Но кто бы знал, как трудно правильно выделать шкуры, пошить из них одежду и обувь на разные случаи жизни и времена года, как сложно содержать их в порядке, когда их надо чинить, чинить и чинить, и ведь все это – женское дело, не дело пастуха и охотника. А какая женщина из нынешнего круга моих знакомых могла бы взять на себя такой труд? Что она умеет, чтобы справляться с такой работой? Женщины Севера приучаются к ней с раннего детства, так же как мужчины – к охоте, следопытству, воспитанию собак и оленей, к тонкостям пастушеского искусства. Стать пастухом и следопытом в таком возрасте, как сейчас у меня, нечего и думать. Во-первых, нигде не достать нужного для учебы наставника, которым у северян обычно становился отец, а чаще – умудренный опытом дед. Во-вторых, зрение, слух, обоняние, вкус – все это уже притупилось и не позволит ухватывать нюансы очертаний следа, запаха, звуков, вкусовых ощущений, которые помогают успешно решать «северные головоломки». И, в-третьих, упущена самая подходящая физическая форма для успешной работы организма в экстремальных условиях Севера, где просторы невероятно огромны, а удобных путей для передвижения нет никаких, разве что снежный наст зимой.
Что же мне остается делать на природе? Охотиться понемногу на беспечную, неосторожную или глуповатую дичь? Ловить рыбку, когда она сама лезет на крючок? Собирать ягоду в сезон? Стрелять водоплавающих во время массового перелета и одиноких оленей, отбившихся от стад? Наверное – так. Дает ли все это в совокупности достаточное пропитание – трудно сказать. Наперед это не может быть известно вообще, да и год на год, конечно, не приходится. В принципе доступным для меня может быть только одно занятие – писанина, зависящая, конечно, от воли и ума, но сильнее всего от такой мимолетной вещи, как вдохновение.
О смысле данного занятия тоже не мешало бы подумать по-новому, взглянув на дело с другой стороны. Писать в затворничестве, в отдалении от людей, я буду только для себя. Не исключено, однако, что написанное может быть полезно и интересно для тех, от кого я по собственному желанию собираюсь удалиться. Дойдут ли до них в целости и сохранности мои созданные в одиночестве труды – один Бог знает. Но даже если дойдут и какой-то неведомый доброхот опубликует их, присоединив к ранее изданному, много ли это послужит пользе людской и, главное, долго ли будет служить?
Пушкина и Лермонтова мы читаем с восхищением и на благо нашим душам уже полтора века, Чехова и Джека Лондона – примерно век. Только Шекспира читаем около пяти веков и, а возможно, будем читать еще лет двести. А дальше? Какое-то время – иногда очень долгое – сохраняются одни имена с краткими аннотациями по поводу сделанного ими. В таком объеме мы знаем, например, Еврипида, Аристофана, Овидия, Конфуция, Ду Фу. Один Гомер выпадает из общего ряда: переводы «Илиады» и «Одиссеи» еще в обиходе, еще в чести. Кто сейчас может похвастать, что читает Веды, знаком с философией Гераклита, Пифагора, Платона, Аристотеля, Спинозы, Канта, Гегеля? Кто читал Монтеня и Ларошфуко? Или Ломоносова и Циолковского? И как тогда такой фигуре, как Глеб Кураев, рассчитывать на долгую жизнь своих произведений? Какой срок отмерен его лирике, сотканной из таинственной материи, рожденной пребыванием в диких местах и в одиночестве? Кому через двадцать-тридцать лет будет интересно, как открывали залежи полезных ископаемых нещадно эксплуатируемые геологи для их последующей разработки заключенными ГУЛАГа?
И что отсюда следует? Только то, что считать пользу для других главным предназначением творчества не следует. Да, польза может быть и для посторонних. Но главное в творчестве – это польза для самого творца. Его успех измеряется степенью постижения самого себя и своего отношения к Богу. Он доказывает свою пригодность узнавать и создавать, наперед зная, что за одним сданным как следует экзаменом последует другой, – и так будет продолжаться неведомо сколько раз, прежде чем Высшая Инстанция аттестует его «за весь курс» и присвоит какое-то новое, более высокое звание. Каково оно, это новое звание, наперед не известно. Ясно только, что обладание им обяжет делать еще больше, чем прежде.