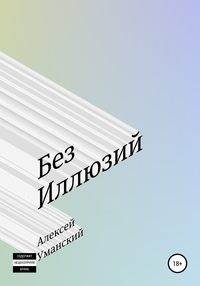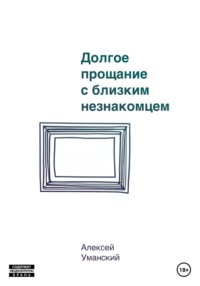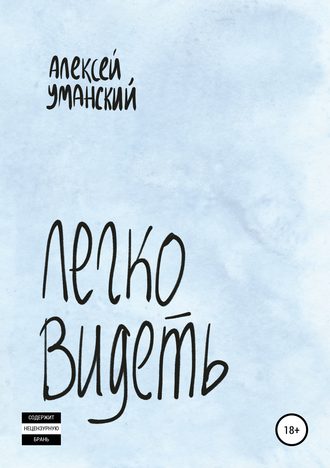
Легко видеть
С тех пор, как он в первом своем походе полюбил Ингу, Михаил понял, что без общей жизни в походах никакая избранница полностью им не завладеет. И неважно, что он любил Ингу, а она, как обнаружилось, не любила – благодаря тому страстному и в то же время разумному чувству, которое выросло в его душе к этой девушке, там навсегда закрепились критерии, которым должна была обязательно соответствовать женщина – предмет его высших, лучших устремлений, способная вызвать в нем готовность к полному самоотречению – вплоть до полного растворения в неразрывной общности с ней. Чисто городские знакомства к такому результату не приводили. Да и сама любовь продолжалась с ними не так уж долго, хотя значимыми для его жизни они не только были, но и остались, тем более, что мимолетными их никак нельзя было назвать. Но мимо они все-таки пролетали – и те, с кем не ходил в походы, и даже те, с кем ходил, кроме Марины. – «А Галя? – неожиданно спросил он себя. – Она тоже мимолетная?» – «А то кто же? Ясное дело – да!» – «Конечно, мимолетная встреча длиной в целую ночь». – «Ну и что же, что ночь? Так получилось. Возможно, из-за дождя». – «А не будь дождя, она что, через час пошла бы в свой лагерь по ночной тайге?» – «Ну, пожалуй, вряд ли». – «Правильно. Не надо пудрить мозги. Тем более, что ты ей понравился. Гордишься?» – «Нет.» – «Но все же доволен?» – «Ею – да. Собой – нет.» – «Но ведь она тебя после этой ночи и в Москву к себе приглашала. И домой, где мать давно сыта по горло ее «женихами», и в мастерскую, где можно заниматься любовью независимо от маминых суждений об очередном избраннике. Кстати, ты на сколько лет старше Галиной мамы?» – «Хм-м. Наверное, лет на десять-пятнадцать». – «Для мамы наверняка было бы большим облегчением знать, что не на двадцать.» – «Но мне-то без разницы, на сколько лет я старше ее мамы, тем более, что и с Галей не собираюсь встречаться.» – «Разве она не понравилась?» – «Даже если понравилась. Не в ней дело». – «А в ком?» – «Во мне и Марине». – «Вспомнил, наконец!» – «Я и не забывал». – «Неужто? Даже когда пользовал Галю?» – «В общем-то, да». – «Неплохо ты помнил. Очень неплохо! И ты ни о чем подобном даже не мечтал?» – «Мечтал, но очень давно. Еще при Лене. А так – просто думал» – «Что думал?» – «Ну, то что обычно лезет в голову, когда давно хочется женщин и есть раздражитель». – «Какой раздражитель?» – «Либо сама женщина, которую видишь, либо ее изображение». – «Без одежды, конечно!» – «Да, лучше, когда без одежды. Или какая-то аксессуарная одежда, которая обычно ничего потаенного не скрывает, а только обрамляет. Типа черных чулок с туфлями на высоком каблуке на женщине с пышными бедрами и грудью и черным треугольником лона». – «Пикантно, конечно, спору нет. Так ведь Галя весьма подходит под этот образ! Ты не находишь?» – «А чего тут сомневаться? Конечно, подходит, несмотря на отсутствие чулок и туфель или бижу. Ну, и что из этого?» – «Как что? Вот тебе и натуральная близость к сексуальному идеалу!» – «Сексуальных идеалов в мире – до черта! Галя близка лишь к одному из них». – «Разве этого мало?» – «Для того, чтоб захотеть покрыть женщину – вполне достаточно. А вот чтобы и дать ей, и взять от нее главное, на что способен каждый пол – нет. В том-то и причина, почему она не захватила меня кроме как на время физблизости, но мечтать о себе как о человеке, а не как об одном из видов сексуального совершенства так и не заставила. Короче, она не пробудила к себе любви». – «Но ведь ты для нее сделал больше, чем стоило, чтобы не подвергать себя новой опасности с ее стороны!» – «Сделал то, что мог, но не стараясь, чтобы она была насквозь очарована мною!» – «Все равно преуспел, она прямо вся исстоналась у тебя в экстазе! Теперь держись, не отстанет!» – «Брось! Глупости! Через неделю она приедет в Москву и начнет ш-шикарнейшую привычную половую жизнь с молодыми людьми, совершенно не вспоминая обо мне». – «А если она и впрямь в тебя въехала?» – «Ну, во-первых, я в это не поверю. А во-вторых, если она проявит ко мне что-то похожее, отнесу это на счет экзотической ситуации, в которой она позволила себе вообразить, что въехала всерьез». – «Так что, не поверил бы в ее искренность?» – «Да ты что? Разумеется, нет!» – «Не любил, не домогался, но полежал – тогда чего ради? Пожалел, что ли?» – «Пожалеть, конечно, пожалел, только не сверх меры. Уж больно ее Игорь напомнил мне Вадима, а Галино разочарование в нем напомнило реакцию Веры Соколик на поведение Вадима в Кантегирском походе. Все-таки у Гали появилось право «наставить» бывшему любовнику рога». – «А ты не упустил представившейся возможности и лично ее в этом праве поддержал». – «Насчет этого спорить не буду. Хотя воздавать Игорю за что-либо в мои намерения вообще не входило. И я ведь не давал ей понять, что собираюсь искать с ней новые встречи». – «Ты-то действительно не давал, зато она дала вполне определенно. В записке об этом прямо говорится. А ты, между прочим, записку эту не сжег, а сберег». – «Да что ты к этому привязался? Если сама Галя не совсем вышла из головы, сжигание записки не поможет». – «Ага, значит, признаешь, что она тебя сильно впечатлила?» – «А кто бы поверил, если б я сказал, что вовсе нет? На то она и женщина с первоклассными умениями и экстерьером» – «Похоже все-таки, что она всерьез пробила твою защиту, а теперь хочет существенно расширить пролом». – «С чего ты взял?» – «А телефоны она с какой целью тебе сообщила?» – «Ну, может быть, для того, чтобы я посильней в нее въехал, а не она. Только я въезжать в нее не собираюсь». – «Это почему?» – «Да и так уже стал виноват без особой охоты. А Марину огорчать совсем не хочу. И гневить Господа Бога по новой в мои планы вовсе не входит». – «Зачем же тогда сохранил записку, тем более, что так она может попасть ненароком в руки Марины, если с Галей ничего не собираешься продолжать?» – «Оставил как знак ее благодарности за поддержку с моей стороны в трудную для нее минуту». – «Ищешь неприятностей на свою голову?» – «Нет, не ищу – в том-то и дело! Уж как я старался избегать встреч с этой компанией, сколько времени зря потратил – и все же не избежал». – «Значит, на то была Воля Божья». – «Выходит, была. Я же знал, что они спешат, в то время как сам не торопился. Вот и отставал, пока совсем не надоело. Не хватало по их милости вернуться к Марине намного позже, чем мог и хотел». – «Вот видишь, бесполезно было противиться Божьей Воле». – «Так надо было убедиться сначала, что она действительно такова. Я сперва только понимал, что встреча с Галиной компанией обернется для меня каким-то испытанием, и поэтому старался его избежать. Но когда Галя пришла ко мне на ночь, я понял, что испытывает меня Сам Всевышний, и уклониться уже не мог». – «Ну и что скажешь – выдержал?» – «Выдержал, но плохо. Внутренней преданности Марине я не изменил. А что касается внешней – сам знаешь. Молю Бога о прощении, но больше о том, чтобы из-за этого не было худо Марине». – «Боишься последствий, если она узнает?» – «Боюсь, несомненно. Но больше даже стесняюсь». – «Стало быть, не сможешь сам ей признаться в своих художествах?» – «Думаю, нет. Хотя художества, в общем-то, не мои. Моя – недостаточная стойкость. Обидит ли это Марину, оскорбит или что – я не знаю. Может, она даже не поставила бы мне это в вину, что, впрочем для моего самовосприятия и совести вряд ли бы стало облегчением. Все равно переспал без спросу. И в любом случае не стал бы разрешения просить, потому что мне, кроме Марины, никого не нужно. На этом стоял и стою».
Он увидел ее всю, в полный рост – невысокую, статную, самую ладную из всех, кого знал. В лице ее явно читалось беспокойное ожидание, когда же он, наконец, вернется или, по крайней мере, даст знать, что завершил поход. Вокруг Марининой головы сиял ореол. Это лучистое тепло он чувствовал только в ней и больше ни к кому так не стремился. Охота была допрашивать себя относительно Гали? Какой смысл был придавать ее появлению в его жизни, включая ночь в палатке, сколько-нибудь серьезное значение? Конечно, плохо, что столкнулись, плохо, что не устоял, тогда как вполне мог устоять, но от себя он все равно не перенес на нее ничего хоть сколько-нибудь значимого. А что в своем воображении перенесла на него Галя, его совсем не интересовало. Теперь его занимало только одно – поскорее закончить этот поход и добраться до любимой по-настоящему.
Примерно за два часа до наступления темноты Михаил отпустил от себя водяной парашют и вскоре скользнул со стрежня в небольшое улово за скальным мыском, где невысоко над склоном была небольшая площадка. Он с трудом приподнял с сидения затекшее тело и вылезая за борт в мелкую воду, подумал, что пройденные за сегодня девяносто километров, несмотря на безделье, дались ему совсем нелегко. Зато он мог радоваться тому, что теперь до Марины осталось всего сто пятьдесят – сто шестьдесят километров самосплавом плюс восемь тысяч километров на самолетах, если он сам не оплошает и авиация не подведет.
Устраивая бивак, приходилось выполнять изрядно поднадоевшую работу. Однако, подумав, что вскоре она может кончиться, Михаил вдруг ощутил, как она ему дорога. Придти в незнакомое место и в короткое время оборудовать себе уют и ночлег – разве это не маленькое чудо, на которое ты способен, чтобы благодаря ему поход перестал быть одним лишь физическим и познавательным испытанием на грани выживания, но смог бы еще запомниться как восхитительный отдых? Рутинные занятия – переноска груза вверх от уреза воды, установка палатки, заготовка дров, разведение костра и приготовление еды – все это вместе и по отдельности могло, оказывается, настолько сильно радовать, что лишиться их в одночасье казалось щемящей потерей одного из значимых жизненных удовольствий. Пока оно выпадало тебе, ты мог не только пристойно защититься от достаточно серьезного напора стихий, но и, находясь рядом с ними, всего лишь чуть-чуть обособившись от них, воспринимать первозданность мира, чувствуя себя почти что его органической частью. Здесь можно было думать, думать и думать обо всех временах своей жизни – прошлой, настоящей, даже будущей, как не думается больше нигде. Сейчас, на закате жизни, он уже не имел уверенности, что сможет попасть в такие условия для размышлений еще неопределенно большое множество раз. Тем печальней было сознавать, что свою квоту этого замечательного образа жизни он уже выбрал почти до предела, а то и совсем. Словно сочувствуя ему, природа в этот вечер начисто вымела ветром весь таежный гнус. Костер в небольшом укрытии горел ровно. Михаил пил чай, любуясь дарящим тепло костром. Дров он притащил много, благо их тут было изобилие, и теперь он мог долго сидеть в темноте без всяких забот и переноситься в мыслях куда угодно.
Видимо, с самых ранних лет в его характере четко прорезался индивидуалист, а жить-то пришлось в атмосфере абсолютного, махрового коллективизма, насаждаемого на всех ступенях и во всех ячейках общества коммунистической партией и ее ударно-защитительным устройством – ЧК, ОГПУ, МГБ, КГБ – в разные времена названия «органов» менялись. А суть всегда была одна – неукоснительный и беспощадный террор ко всему не устраивающему политбюро ЦК (РКП, ВКП (б), КПСС). Михаил был таким же объектом государственного террора, как и подавляющее большинство советских людей. С раннего детства страх перед террором вливался в кровеносную систему то в больших, то в меньших дозах. Каждый в этом смысле постоянно существовал «под капельницей», из которой внутрь организма и души вводился страх. С малых лет детям внушали, о чем и как можно говорить с посторонними, а с кем нельзя говорить ни о чем, кроме заведомой лжи, в которую с непривычки нельзя было поверить даже ребенку. Если у нас самая свободная в мире страна, то почему нельзя говорить то, что думаешь? Если то тут, то там говорят не просто об арестах неведомых «врагов народа», а об арестах точно таких же людей, соседей по работе или по дому, которым при всем их желании нечем было навредить народу, строящему социализм и коммунизм, поскольку они делали точно то же, что и не арестованные на работе, и никуда не укрывались от глаз соседей для осуществления подрывной нелегальной деятельности в «свободное время». Это в той или иной мере воспринималось с достаточной определенностью с детсадовского возраста – своей родной и самой гуманной на свете советской власти НАДО ОПАСАТЬСЯ, чтобы не стать ее врагом. В школе, не считая начальных классов, набирающиеся жизненного опыта ученики уже сами без подсказок начинали безошибочно определять, о чем еще нельзя разглагольствовать, расширяя круг табуированных тем и суждений в общении с разными людьми – с незнакомцами, с коллегами, с друзьями, с родственниками – и даже особо формировать такой круг собственных представлений, в которые не следует посвящать НИКОГО. Дальше с возрастом познания такого рода только расширялись. Так шло отравление страхом даже у тех, кто не подвергался репрессиям сам и у кого в семье не пострадал от репрессий никто.
А вторым по значимости средством удержания всех индивидов, составляющих народ, от самовольства и самовыражения был как раз обязательный коллективизм. Его можно было прекрасно, просто безгранично, объединять со страхом для совместного воздействия на людей в интересах властителей общества. Типичный путь советского человека – и Михаила в том числе – начинался в коммунальной, населенной несколькими семьями квартире, продолжался в детском саду, затем в школе, в техникуме или институте. Везде кроме как со стороны ответственных за воспитание лиц человек находился под контролем избранных в общественные организации (таких как председатель совета пионерского отряда, секретарь бюро или комитета комсомола, председатель профкома, секретарь партбюро) или «членов актива», то есть людей, не имеющих общественной должности, но жаждущих ее получить и изо всех сил изображающих свою полезность для власти. Отдыхать тоже полагалось организованно – либо в системе профсоюзных «здравниц», либо в дачно-садоводческих кооперативах от той организации, где работали члены кооператива, в пионерских лагерях, в спортивных лагерях, на туристских базах и альплагерях, где идейный контроль совмещался с контролем соблюдения правил спортивного режима. Все это Михаил тоже прошел наравне с подавляющим большинством других граждан, и везде из него лепили – и далеко не без успеха – человека, удобного для использования в первую очередь в интересах властей – так называемого «сталинского винтика», который отнюдь не переставал быть сталинским после развенчания Хрущевым «культа личности Сталина». Просто отпало, попав под запрет, слово «сталинский», а существо отношения к человеку никак не изменилось – он так и остался «винтиком» той силы, которая почти единолично представляла собой единственную и постоянно правящую партию. Никто не имел ни права, ни возможности игнорировать правила существования в криминальном «социалистическом обществе». Но одни, сколько было сил, противились изнутри превращению себя в покорного, бездумного, обреченного на вечное подчинение раба, а другие развивали бурную деятельность ради того, чтобы, оставаясь рабом, стать надсмотрщиком над еще более бесправными рабами. Но и от тех, и от других высшая власть требовала «идейного единства, сплоченности вокруг родной коммунистической партии и ее центрального комитета». И всем был обещан в скором времени коммунистический рай на Земле, ради достижения которого «пока» приходилось идти на жертвы. Лживые посулы тем легче срывались с языков демагогов, чем труднее было достичь того, что они обещали и что призывали творить. Их «новояз» внешне очень мало отличался от нормального естественного языка, просто привычные слова в «новоязе» означали совсем другое, чем в общем обиходе. Достояние человечества – естественный язык – заставили обслуживать процесс принудительного оболванивания масс, превращая слово за словом в оружие демагогии. В «новоязе» «мир» означал войну, «правда» – ложь, «социалистическая демократия» – террористическую тиранию, «победа или торжество несокрушимых ленинских идей» – результат тотального подавления инакомыслия грубой силой. Врать в подобном духе разрешали сколько угодно и кому угодно. И это въедалось в сознание и подсознание, в разум и душу людей настолько глубоко, что многие позволяли себе не просто покориться диктату, но и верить в то, во что заставляли верить, до смертного часа. Впрочем, чему тут было удивляться – к сожалению, выдавливание из себя раба не сделалось общенародным занятием, когда стало возможно двинуться под действием собственного импульса в сторону подлинной свободы. Старшие поколения уже не видели в этом особой необходимости и смысла, да и не верили в терпимость новых демократических властей, потому что кадровый состав правящего слоя изменился очень мало, а алгоритм принятия важнейших для общества решений остался прежним, то есть византийского пошиба тайновластием, которому ни рядовые граждане, ни производящие много шума – в основном вредного по существу – члены «демократически избранных органов власти» практически не допускались. Прежний «новояз» сменился сверхновым. В нем появились словечки типа «разделения властей» – чтоб создать впечатление, будто властная элита не едина, «электорат» в качестве заменителя совокупности избирателей, «харизматический» как характеристика угодного электорату образа того или иного претендента на выборную должность, «высшие человеческие ценности» ради игнорирования удовлетворения общечеловеческих потребностей во всем обществе. Спору нет, это было уже много лучше прежнего лексикона, но все еще очень далеко от осмысленного понимания и использования всех этих слов. Особенно впечатляющим было занесение в сверхновый новояз словечка из английского, точнее – американского языка, снабженного русским довеском – «черный PR» (черный пиар). Аббревиатура PR в исходном значении соответствовала «public relations» «отношения с общественностью». В русском же языке «пиар» означал, естественно, уже совершенно другое. Это было названием того, что надлежало обрушить на головы «электората» во время агитационных и пропагандистских компаний. Естественно, участвующие в выборах и соперничающие друг с другом претенденты обрушивали друг на друга в основном компрометирующую информацию. Таким образом, «черный пиар» был просто псевдокультурным синонимом словосочетания «поток грязи», что явно имело очень мало общего с исходным американским PR.
Михаила давно, уже как специалиста в создании искусственных дескрипторных языков для информационного поиска, в рамках которых сводилась на нет вредящая полноте и точности выдачи информации многозначность слов естественного языка, интересовали причины переиначивания смысла хорошо известных людям слов. По всему выходило, что в основе исказительного процесса всегда была закономерная ложь и безграмотность. Говорящие «на публику» думали о другом, а не о том, что выпархивало из их гортани, срывалось с языка и было приятно слышать аудитории. Но рано или поздно этого говорящего и его слова стали оценивать не по речам, а по делам. И тогда люди начинали понимать, в чем на самом деле заключался смысл услышанного, и постепенно старые слова в новом обиходе начинали устойчиво выражать другой смысл в сравнении с исходным, который отчасти забывался или уходил на дальний план. Это тянулось в современность из глубокой древности. Михаилу после прочтения Библии показалось очень странным, что Господь Бог выбрал в качестве своего пророка и сделал водителем еврейского народа во время Исхода из египетского рабства косноязычного Моисея, не исправив при этом его речевых недостатков. Полноценный пламенный агитатор из него просто не мог получиться. В качестве компенсации Всевышний придал Моисею его родного брата Аарона, сделав его первосвященником истиной веры, который передавал народу слова и волю пророка. Столь громоздкая трансляция представлялась удивительно нелепой – ведь в Библии, правда, уже в Новом Завете, говорилось о том, что Волею Господа Бога апостолы христианской веры, необразованные люди, для удобства благовествования о Христе в одночасье обрели способность не только хорошо выражать свои мысли на родном языке, но и свободно говорить на иностранных, которых не знали отродясь. Почему же Моисею не было явлено подобной Милости? В одном Михаил уверился сразу же – такое было сделано неспроста. Углубившись в поиски объяснений, он отметил, что главным обретением Моисея ради обеспечения своему народу неизменной Милости Божией было получение на горе Синай Скрижалей Закона Создателя. Господь Бог нагрузил пророка каменными плитами (скрижалями) с текстом Своих Заповедей, с которыми тот и спустился в долину к ожидающему его народу и Аарону. Какие выводы можно было сделать из этого? Во-первых, что Всевышний не пожелал сообщить Заповеди в устной форме, сразу задав евреям их текстовый эталон, дабы исключить искажения при устной передаче. Во-вторых, что Господь Бог довел до своего избранного народа не весь свод необходимых для обеспечения благого поведения его сынами и дочерьми Законов, а только Ядро Законодательства. И без того было удивительно, как Моисей сумел дотащить скрижали только с Заповедями. Свод Законов в объеме Торы и Талмуда он бы ни за что не дотащил. Тем самым была задана Свыше установка на дальнейшее развитие еврейского законодательства до уровня подробного культового и бытового ритуала силами смертных богословов. В результате их трудов появился канон в виде Торы и Талмуда, но не только. Параллельно непрерывно возникали и претендовали на место и в каноне и на практике всякие – разные ереси, опиравшиеся все на то же ядро – на Заповеди Господни, сообщенные Моисею в письменном виде. Читать и произносить их вслух более или менее одинаково умели многие. А вот усматривать в них одни и те же оттенки смысла желали не все. Каждый еретик хотел доказать, что ему больше открылось от Бога, чем предшественникам и коллегам, кроме самого Моисея, которого уже не спросишь, а если бы и можно было спросить, то разве косноязычного точно поймешь? Не иначе как Всевышний пожелал, чтобы абсолютно одинаковых и исчерпывающих представлений об Истинном Законе Божием ни у кого не могло быть, покуда он не чтением, а трудами ума и сердца не проникнется Духом Промысла Божьего и по одобрению Свыше не поймет, что движется по правильному пути и ведет себя верно. Ведь ошибки, совершенные по причине неведения, не перестают быть грехом, и за ними обязательно последует какое-то наказание Свыше, потому-то и догадываться о том, что правильно или неправильно с точки зрения Господа Бога, лучше как можно раньше и по возможности без новых ошибок. Ибо могут ошибаться целые синклиты, синедрионы и тому подобные органы официального духовенства, включая вселенские соборы, а некий отдельный индивид, искренне истово служащий поиску Истины в Боге может быть более прав, чем кто-либо из смертных еще. «Праведный да поймет!» Это обнадеживающее и призывающее к благочестью и познанию восклицание многократно встречалось в источнике святости. Оно в равной степени обращалось и к официальным блюстителям – наставникам веры, и к тем, кого они должны были привести за собой к царствию Божиему, да так и не приводили. Это только Моисею после немыслимо долгих и сложных блужданий по крошечному Синайскому полуострову было Дано сделать то, что он обещал – привести свой народ к Земле Обетованной, то есть обещанной Богом евреям, всенародно сбежавшим из египетского рабства, к Палестине, где они получили возможность праведно жить и развиваться. Но и Моисей, поразительный подвижник, был не без греха, и Господь Дал ему только издали увидеть обетованную страну, но войти в нее вместе со спасенной им нацией не позволил. Ну, это ладно.
А по существу богословы были заняты решением проблем приложения принципов Завета к открытому множеству возникающих в жизни ситуаций, то есть предлагали множество разных интерпретаций. Ортодоксы, то есть официальные хранители Завета и его приложений, например, фарисеи, стремились отсечь не нравящиеся им интерпретации, искажающие, по их мнению, Промысел Божий, и на этом основании запрещали еретические интерпретации и преследовали самих еретиков. И так бывало всегда. У евреев и не евреев, у верующих в Бога и неверующих. Кто господствовал на идеологическом поприще, тот и пресекал, насколько мог, покушение на свою монополию или явное преобладание в социуме. А фокус был в том, что Всевышний обязывал каждого лично, индивидуально искать праведный путь – и совсем не только следованием в кильватере за теми, кто стучал себя кулаком в грудь, заявлял, что все знает о том, куда, как и зачем идти. Это был слишком легкий способ приобщения к совершенству, чтобы Господь Бог согласился считать людей, воспользовавшихся им, заслужившими право навсегда оставить этот мир тревог, испытаний, иллюзий и обольщений. В самом деле, путь в высшие Миры открывался и открывается не для тех бессчетных миллиардов прихожан, кто отдал себя в руки церковных духовных пастырей по месту своего проживания, а всего лишь немногим сотням святых, которые по зову совести делали несравненно больше того, что удовлетворяет церковников при работе с верующими. Всевышний с полной определенностью показывал, что свои Истины он не собирается просто так передавать из своей собственности в руки смертных, будь они священнослужителями или кем-то еще. И все шло неизменной чередой – новые поколения делали то же, что и прежние, если иметь в виду духовную сферу, но только во все более заметно изменяющейся к худшему, оскудевающей и перенаселенной среде обитания, если говорить о материальной стороне существования. Образно говоря, со времени грехопадения Адама и Евы постепенно росло народонаселение планеты и становились дефицитными сначала охотничьи угодья, затем свободные пастбища, потом пашни, леса, наконец, воды и воздух. Оскудевала и способность природы Земли и организма самого человека сопротивляться неблагоприятным и быстро нарастающим изменениям или привыкать к ним. Удары по иммунной системе каждого индивида делались все ощутимей, грозя самому существованию человеческой породы. В условиях обострившейся пищевой конкуренции теряла действенность с трудом обретенная личная и общественная мораль, поскольку все ценности, вплоть до невещественных, стали предметами купли-продажи. Разрастающийся за счет все новых предметных поступлений рынок сметал со своего пути прежние моральные и познавательные табу, большинство которых было установлено не кем-нибудь, а самим Создателем. Мерилом почти всего на свете стали деньги – самая эфемерная, недолго живущая ценность, которая полностью девальвируется для каждого их обладателя со смертью его физического тела, но отнюдь не его духа и души. В атмосфере всеобщих денежно-расчетных отношений абстрактная мыслительная деятельность, не порождающая прибыли в деньгах, в общем мнении теряла свою привлекательность и переставала казаться необходимой, хотя именно в абстрактных размышлениях человек мог проникаться и духом природы, и духом Божиим, без чего не могло происходить личное совершенствование. Это была древнейшая ошибка человеческого социума – будто лишь коллективные действия и особенно – коллективная работа по нравственному совершенствованию даст благой результат. Две тысячи лет христианства убедительно доказали, что коллективы верующих под водительством священников – функционеров церкви, не стали лучше ни как целое, ни по персональному составу, чем любые прежние общины христиан. Призывы к лучшему поведению звучали без счета и в храмах, и под открытым небом – и где только еще они ни звучали. Паства исправно слушала, пела и подпевала, и участие в коллективном богослужении обычно вполне заменяло молящимся самое важное – внутреннюю работу над собственными устремлениями чувств, мыслей и поступков, чтобы вера могла дать свои благие плоды не в рамках молитвенного собрания, а непосредственно в жизни. А там, то есть в жизни, на глубоких бескорыстных мыслителей чаще всего смотрели, как на смешных чудаков не то с придурью, не то со странной блажью, а в бесхитростно и нерасчетливо добрых людях, чьей добротой с удовольствием пользовались, вовсе не усматривали пример для себя. Вот таковы оказались итоги цивилизованного развития человечества под эгидой веры в Единого Благого Бога, который вынужден был выдворить перволюдей – Адама и Еву – из рая с суровым напутствием и одновременно приговором: «Плодитесь, размножайтесь!» Ну что ж – расплодились, размножились. Только в вынужденных трудах своих лучше не стали и не заслужили себе прощения Господа, а с ним – и разрешения вернуться обратно в Божий рай. Зато потомки Адама и Евы научились производить товары и торговать ими, используя деньги как «всеобщий эквивалент». Несколько позже они догадались открыть учебные заведения, в которых совершенствовали свои знания, полученные из церковных книг и от «отцов церкви», но в еще большей степени получали прикладные знания, помогавшие лучше строить, лучше воевать, лучше питаться, лучше грабить и использовать ресурсы природы, но из всего этого так и не последовало знаний, как стать лучше им самим. Кстати, с обретением массы новых прагматически значащих умений примерно столько же ценного, уже имевшегося в голове, забывалось и утрачивалось навсегда.