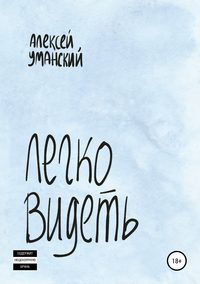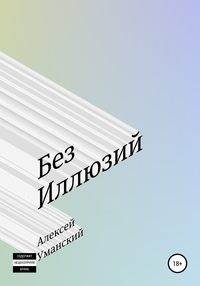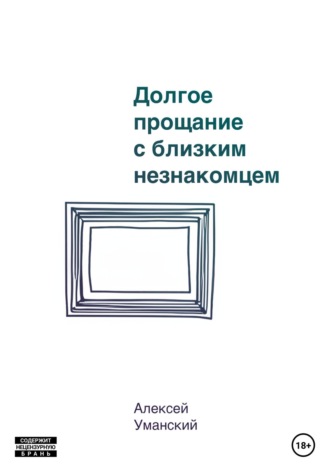
Долгое прощание с близким незнакомцем
К оружию и инструментам в равной степени принадлежали ножи. Волею судеб у меня уже образовалась небольшая коллекция. Кое-что я купил сам, остальное дарили. Среди дареных был и кавказский кинжал, и гиссарский нож, и якутская самоделка, и шедевр моего соседа-приятеля Николы. В ножах нехватки не было. Но мне помимо них хотелось иметь большой нож с клинком длиной не менее сорока сантиметров для насадки на древко длиной около полутора метров, чтобы он служил оружием вроде рогатины (по-эвенкийски пальмá) или для прорубания тропы в лесной чаще. Рубить нетолстые стволы и ветки деревьев топором тяжело. Чтобы срубать ствол у самой земли, приходится постоянно нагибаться. С пальмóй проще. Конечно, клинок пальмы весит меньше топора, но за счет большей скорости при косом ударе ствол ели в три-четыре пальца толщиной можно перерубить с одного удара. А уж рубить упругие лапы ели или кедрового стланика пальмóй несравненно удобней, чем топором. Я бы и сам отковал себе пальмý из «стахановского» напильника или из рессоры, будь у меня кузня. А так снова придется обращаться к Николе – он найдет, где отковать.
Как в любой экспедиции, мне нужно будет и обычное походное снаряжение – в первую очередь бивачное: палатка – одна, как минимум, и, как минимум, два теплых спальных мешка. Исследование местности вокруг основного стана надо будет провести на расстоянии до двадцати или тридцати километров, а то и больше, если возникнет особый интерес. Да и на случай непредвиденно скорого выхода из тайги к людям тоже могут понадобиться и легкая прочная палатка, и спальный мешок с вкладышем, и, разумеется, походная посуда: котелки, сковороды, фляги, кружки, миски, ложки, вилки, консервные ножи, не говоря о посуде для дома – ведрах, кастрюлях, тарелках – все это образует достаточную тяжесть, в сумме 30 кг. Еще нужна печка, желательно из жаропрочной стали – в зависимости от конструкции 6—10 кг. Тоже надо будет попробовать заказать через Николу на его «ящике». Если там ухитрятся создать шедевр из спецматериалов полегче, тем лучше. Но печь надо будет проверить заранее. И проследить, чтобы трубы к ней были диаметром не меньше 12 см. А то я уже видел прекрасные по замыслу печки, пламя в которых задыхалось из-за слишком узкой трубы. Из зимнего снаряжения важнейшими предметами являются лыжи. Что мне понадобится для зимней охоты – сам пока еще толком не знаю. Очевидно, широкие, подбитые камусом (где их достанешь в Москве? – видно, придется делать самому, если не удастся купить на месте), возможно, одну пару горных лыж с ботинками и – не могу себе отказать в желании испытать их самому – снегоступы на манер канадских (тоже где взять? Разве что попросить прислать Фарли Моуэта). Глядишь в сумме набежит 25 кг. Еще нужны будут лыжные палки, деревянные лопатки, которыми охотники обихаживают ловушки, хотя, в отличии от Кудусова, ни одного капкана я принципиально не возьму. Наверняка понадобятся веревки. Здесь надежда на знакомых альпинистов, что дадут и основную веревку – метров под сто, – и репшнур – примерно вдвое больше. К этому заодно надо будет взять три-четыре карабина, несколько скальных и ледовых крючьев и молоток. К этому просится и ледоруб – кто знает? Может, зимой на замерзших реках придется как-то преодолевать замерзшие водопады? Тогда и кошки нужны. Вот тебе еще килограммов 20—25. А дело еще не дошло ни до обуви, ни до одежды.
Нужны высокие сапоги – самое малое 2 пары, да еще 1 пара обычных резиновых и 1 пара кирзовых сапог на правах почти что домашних тапочек для работ около дома. Кеды – 2 пары, ботинки на вибраме – 2 пары, вот тебе и 16 килограммов. Носки шерстяные и тонкие из хлопка и нейлона – пар 20, портянки, – еще 4 кг. Итого обувь – 20 кг. Одежда. Летняя, весеннее-осенняя, зимняя. На лето штормовые костюмы – 2 пары. Студенческие целинные костюмы – тоже 2 пары. Теплое белье – 3 пары, плавки 6—8 пар, тельняшки – 4—6 шт. (их в магазинах не купишь, надо просить моряков). Далее – теплые брюки, брюки-эластик по 1 паре. Свитера – 4 шт. Куртка болоньевая теплая – 1 или 2 шт. Непромокаемая клеенчатая куртка – 2 шт. Ватник – 2 шт. Меховая куртка-полупальто. Неплохо бы еще и чукотскую кухлянку (надо будет забросить крючок корешам из Певека). Рубашки-ковбойки из фланели – 4 шт. Хороший получится гардероб. А еще шапки зимние – 2 шт., шапочки вязанные – 2 шт., кепки или береты – 2 шт. Разве что шляпу не брать, хотя 3—4 накомарника в виде шляпы – обязательно. Так же, как литр или два диметилфталана. Сколько всего выйдет? Минимум 35 кг.
Теперь приборы, предметы культурного обихода. Часы – 3 штуки, очки солнцезащитные – 3 пары, очки диоптрийные (до 1,5 диоптрий – на всякий случай) тоже 3 пары. Бинокль. Подзорная труба – подарок Михаила Горского – обязательно! Электрофонари – 3. Радиоприемники на транзисторах – 2. Батарей ко всему этому один Бог знает, сколько надо! Штук, пожалуй, под 100. Страшно подумать! Свечи – 300—400 штук. Керосиновые фонари «летучая мышь» – 2. Керосин. Далее – письменные принадлежности – бумага, ручки, стержни. Пишущая машинка (портативная). Книги, справочники. Бумаги надо брать на всякий случай – страсть! Тысячу листов? Две тысячи? Три? Да почëм я знаю! Буду писать со страстью, тогда и трех тысяч может не хватить. Если заколодит – то и тысячи окажется много. Ну, а если честно: сколько времени вообще может оставаться на литературную работу у охотника-промысловика, даже если он промысловиком называется условно? Учитывая каждодневный труд, когда всë надо делать одному: готовить, чинить, обходить тайгу, обрабатывать добычу, колоть и носить дрова, носить воду, топить печку, варить и готовить и прочее, и прочее, и прочее? Скорее всего, не больше, чем у начальника геологической партии после трудного маршрутного дня. Да нет, не больше, а меньше, потому что начальник, вернувшись из маршрута, обычно ничего не готовит – для этого в партии есть или повар, или дежурный кашевар. Что ж тогда у «промысловика» останется на писание? Разве что дни особо непроглядного ненастья или пурги. Сколько таких дней бывает в году? В разных местах, конечно, по-разному, но уж никак не больше ста. Если в каждый такой день успевать написать 10 страниц (что очень сомнительно), то это максимум 1000 страниц в год, а вернее – 500. В два года – 1000. Значит, полторы тысячи должно хватить за глаза. Но и это весит прилично. Кроме письменных принадлежностей могут понадобиться и элементарные чертежные: циркуль, линейка, угольники, транспортир. Нужны компасы в каждую рабочую одежду, то есть с учетом запасных – штук 6-7. Нужны штангенциркуль, рулетка. Итого, приборы и «культура», пожалуй, потянут на полсотни килограммов. Обалдеть! Но ведь я действительно хочу быть не только охотником и собирателем. Я хочу еще и что-то отдавать! Можно ли в таком случае строго экономить на этом? Похоже, что нет. Я уж не говорю о том, как хорошо было бы иметь радиостанцию для связи с кем-то в «жилухе», – это в моем случае нереально. Да и лучше внимания к себе не привлекать. И вообще, где бы я достал «подъемную» радиостанцию и питание к ней? Нет, об этом лучше не думать. Тем более, что люди, ничем не хуже меня, работают в тайге вне какой-либо связи с миром. Так почему я, решивший как следует пожить в их шкуре, должен заботиться о приобретении того, чего у них отродясь не было? Нет, тут уж надо играть только по общим правилам. Тем более, тебя никто не посылает в тайгу на промысел и, следовательно, даже номинально не отвечает за тебя. Хочешь, умеешь – живи. Не хочешь, не умеешь – нет. Tertium non datur. С этим заклинанием на латинском языке и отправляйся в новую сферу бытия. Сибирь такую латынь отлично понимает. Укладывай свои сотни килограммов в десятки рюкзаков. Запомни только, что ты еще не положил ничего съестного, что, конечно, очень остроумно, учитывая хорошо тебе известную особенность зверя, птицы и вообще любой дичи не попадаться на глаза, когда она особенно необходима. Что будешь есть? Чем будешь питаться, писатель? Ведь даже нормальные промысловики (которые без кавычек) берут на весь сезон запас сухарей, сахара, чая, соли, круп. А что это значит в переводе на твой цифровой язык?
Если не вдаваться сходу в подробности и просто положить на каждый день по полкило продуктов (а это совсем немного, учитывая условия жизни), то на два года надо брать 365 кг. Вкупе с «барахлом», которое весит в общей сложности… 250 кг без бензопилы «Дружба» или 300 кг с пилой, это будет около 700 кг. Порядок величины тот же самый, о котором сообщал Кудусов.
С таким грузом особенно никуда не разбежишься без посторонней помощи. Самое лучшее было бы как-то договориться с пилотом вертолета – он бы подбросил точно, куда надо, или почти. Но пилоты – народ капризный. Никто наперед не скажет, ради кого или чего они согласятся нарушить строгие инструкции органов, никого, никогда, ни в какие заранее не дозволенные ими места не доставлять. Хорошо бы нашелся среди них мой благодарный читатель или однокашник по летному училищу близко знакомого мне пилота полярной авиации. Или пилот, который знал бы моего однокашника-геолога. Словом, такое дело требовало неформального подхода и неформальных отношений. Иначе зачем им рисковать своими летными правами? Разве что ради денег. А денег у меня на такие расходы то ли хватит, то ли нет… Даже рекогносцировки должны были обойтись в немалые суммы. Что же тогда говорить об основном предприятии – или авантюре, – стратегию и тактику которой я сейчас и должен был выработать в наиболее реалистическом виде, иначе всем моим планам и начинаниям грош цена, несмотря на все понесенные затраты.
В общем, разведке в двух намеченных местах надо было уделить основное внимание. Лучше всего было бы произвести ее не только летом, но и зимой, то есть в ближайшие два месяца, не позже – чтобы посмотреть, в каких падях идут лавины, где с этой точки зрения безопасно обосноваться, а где – нет. Но это казалось совершенно неосуществимым. Так что оценивать лавинную опасность разных участков придется на глазок летом. В общем, кое-какие представления на этот счет у меня есть. Не зря мастер тянь-шаньских горнолыжных трасс Гулин показывал и объяснял, что откуда и почему может грозить срывом лавины зимой, прямо на склонах Анадырского хребта. В дополнение к этим урокам я получил некоторые знания и на Кавказе – из разговоров с альпинистами – спасателями и горнолыжными инструкторами, и не только. Бывало, крупные лавины сходили со стенных участков прямо на моих глазах. Зрелище устрашающее и подавляющее. Браваду оно вышибет из любого.
Ясно, что ставить дом на возможном пути схода лавины может только идиот. Тем не менее ставить его все равно придется где-то в пади, недалеко от воды, хотя именно на дно долин в конце концов и выносит лавины. Рядом должен стоять высокий лес и почти со всех сторон ограждать зимовье, чтобы его не было видно даже почти вплотную и чтобы крыша не бросалась в глаза с воздуха. Желательно, чтобы ягодники находились рядом. И чтобы поблизости не было признаков полезных ископаемых. Не хватало, чтобы после визита какого-нибудь коллеги-геолога сюда направилась разведочная партия. Да, если вспомнить о последствиях открытий моих коллег, поневоле усомнишься в пользе для Земли, соотечественников и всего человечества моей прежней профессии. Кто пришел по следам таких знаменитых геологов, как Билибин, Урванцев, Чернов? Специалисты ГУЛАГа во главе бессчетных дивизий и армий зеков. Превратить в страшную, гиблую каторгу любое прекрасное место на Земле особых усилий не составляет. Сгубить ландшафт, воды и недра очень просто. Именно это произошло на Калыме вслед за открытием золота Билибиным, на Таймыре после открытия полиметаллических месторождений Урванцевым, в Коми после открытий угольного бассейна Инты и Воркуты Черновым. Всюду возникали зоны, окруженные колючей проволокой, шахты, прииски, обогатительные предприятия. Вырубалась тайга. На месте райских полян появлялись мертвящие отвалы и кладбища с безымянными могилами. Воздух жизни превращался со временем в смертоносную газовую смесь. Виноваты были эти геологи? И да, и нет. Да, потому что не могли не знать, что они – пионеры безобразной промышленной экспансии. Нет, потому что не они организовали процесс добычи полезных ископаемых по самой дешевой и самой неэффективной каторжной технологии, к тому же и самой разрушительной и грязной. Билибину и Урванцеву хотя бы отчасти повезло – именем первого назван город на Малой Аное, точнее на его притоке Кинервееме, второму поставлен памятник. На Чернова же в Коми обиделись основательно – имя его на карте Коми не увековечено нигде. Ему не простили превращения прекрасных охотничьих угодий и оленьих пастбищ в зону бедствия.
Мои личные открытия не были столь масштабны и не определяли изменений целой области, республики или края. Но ведь две прекрасные, чистые реки не Чукотке испохабили, испортили после меня, стало быть, и по моей вине. Хватит. Больше не хочу. Особенно в непосредственной близости от моего дома, от моей территории, на которой я хочу утвердиться в своих интересах – и больше ни в чьих других. «Если я не за себя, то кто за меня?» – как вопрошал древнееврейский мудрец рабби Гиллель и даже не трудился отвечать на риторический вопрос. Конечно никто! Правда, следующий вопрос Гиллеля опрокидывал все с ног на голову: «Если я только за себя, зачем я?» А затем, чтобы там, где могу, не давать портить нашу планету. Затем, чтобы писать для людей, оставаясь свободным человеком. Затем, чтобы потомки сказали спасибо, а не прокляли за превращение планеты в мусорную свалку, на которой невозможно существовать.
Что в этом свете представляют ценности технологической цивилизации, потакающей алчным потребителям барахла и милитаристам? Безусловно – ничего. Необратимо губить среду обитания, доставшуюся от Бога даром, сделаться жертвами собственной дурости и перестать жить – это психопатия, а не только идиотизм. Так что не надо, рабби Гиллель. Не все, что делается вроде как «только для себя», бесполезно для других. Наоборот – часто очень полезно. Да если взять не только охрану своей территории от наступления варварства, но и писательство, – разве кто-нибудь когда-нибудь написал хоть одну стоящую книгу, если он писал ее в первую очередь НЕ ДЛЯ СЕБЯ? Не-е-ет, путь к пользе для всего человечества лежит через деятельность каждого в свою собственную пользу – отнюдь не наоборот. Человек создает благие приращения своими трудами для себя и, в итоге, – в себе. Если нет ему пользы от своих трудов, не будет от них пользы и другим людям. А вот «коллективный разум» об этом благе печься совершенно не способен, ибо он – сумма дурных эгоизмов граждан и подданных разных государств, а вовсе не благих общественных устремлений. Этого пока, мягко говоря, люди «недопонимают». Особенно у нас.
II
Я предпочитал опираться на собственные соображения во всем, что касалось исчезновения из цепких лап цивилизации, но в деле извлечения денег из литературных трудов мне не мешало посоветоваться с Викой. Деловую конъюнктуру она всегда чуяла, и ей ничто не мешало смотреть на вещи проще, чем мне, – без сомнений, что приемлемо, а что нет. И все-таки я некоторое время колебался, прежде чем позвонить ей. То, о чем я собирался говорить, было достаточно интимного свойства, а с тех пор, как она, выражаясь высоким слогом, покинула мой кров, близости между нами не было, хотя, честно признаюсь, противной мне она не стала, как не стала и более желанной.
Назавтра я уже был у нее и начал сразу с дела.
– Вик, скажи прямо, стоит мне принимать предложения от Госкино и от Малого театра переделать «Полигон» в киносценарий и в пьесу? Деньги и там и там обещают немалые. А они мне понадобятся.
– Зачем? – спросила она.
Я решил назвать вместо истинной причины другую, так сказать, смежную.
– Сама знаешь. Яхту пора, наконец, либо купить, либо начать строить.
– А в чем, собственно, проблема? – спросила она. – Соглашайся, пока предлагают.
– Неохота своими руками профанировать вещь, – ответил я.
– Ну, так дождешься, что чужими.
– То есть как? – удивился я. – Разве моего согласия не требуется?
– Формально требуется. Но есть способ обойтись без него. Роман ценен тем, что он о большом государственном деле, что там есть и производственный, и личный мотив. Этого так недостает современному театру и кино. Поэтому они и кинулись к тебе.
– Допускаю. Ну и что?
– А то, что в случае твоего отказа они найдут профессионального сценариста или драматурга без комплексов, и он напишет то, что требуется, а возле заглавия – это не обязательно будут «Полигоны» – напишут: «По мотивам романа Г. Кураева «Северо-восточные полигоны»». Вот и все. И совсем не факт, что ты тогда хоть что-нибудь с них получишь.
– Значит, соглашаться?
– Конечно! Господи, с тобой до сих пор приходится говорить, как с ребенком!
Я ничего не ответил, но понял, что она права. На этом мои колебания – принимать или не принимать предложения от театра и от кино – кончились. Заодно отпала и необходимость спрашивать Викино мнение насчет идеи Атаева снять фильм сразу по двум рассказам – «Горные зори и старики» и «Последний рывок». Получалось, что и на это надо было сразу соглашаться. На том деловая часть визита была исчерпана. Можно было перейти к неделовой.
За чаем я легко убедился (сначала глазами, потом руками), что под Викиным кимоно ничего нет. Я задержал руку у треугольника, просунулся ладонью вглубь. Получилось. Другой ладонью прикрыл грудь. У Люды здесь было поменьше, зато неплохо компенсировалось темпераментом. Вика была построена фундаментальней, из более крупных и тяжелых элементов, о которых я порой с удовольствием, но без особого вожделения вспоминал. Правда, сейчас появилось и вожделение.
– Пойдем туда? – я показал головой в сторону спальни.
Вика слегка кивнула.
Я встал и пошел вслед за ней. Чай остался «на потом».
Через полчаса мы вернулись к столу. Вика сразу поставила чайник на огонь. А я подумал: сколько пачек индийского чая «со слоном» надо будет взять на два года? И сколько еще плиточного чая для походного костра, где он идет ничуть не хуже, несмотря на грузинское происхождение? Но сосчитать не успел. Вика спросила:
– Все-таки тебе меня недостает?
Врать не хотелось. Как и объяснять истинное положение вещей: возможность дополнять то, что у меня есть, тем, что могла мне предложить только она. Но не больше того. Я промолчал.
Вика предпочла принять это в свою пользу.
– Что ты тогда наделал? Что ты тогда наделал и, главное, зачем? – с глубокой горечью, как о потере счастья, которое было, по ее убеждению, так возможно, сказала она.
Да, обойтись без упреков ей было трудно всегда. Наверное, они возникли не на пустом месте, только я об этом не помнил ничего. Что происходило на самом деле, а не в моем горячечном бреду? Спрашивать было бесполезно – она и слышать не желала, говоря, что не хочет снова пережить такое еще раз даже мысленно.
– Что ты сейчас делаешь? – спросила Вика.
На этот вопрос надо было ответить.
– Пишу новый роман. А что?
– Много уже написал?
– Да, вроде порядочно. Уже по второму разу пошел.
– Ого! Вижу, в скорости ты прибавил! А о чем он?
– Да, в общем, примерно о том же, что начал в «Полигонах». Тоже Север, но обстоятельства другие. И тоже поиск смысла своей деятельности и всей жизни.
– Название уже есть?
– Названия еще нет, – соврал я, зная, какое значение она придавала тому, чтобы оно с самого начала было определено и задавало весь ход работы.
Эту новость Вика проглотила молча. После паузы спросила:
– А когда думаешь закончить?
Ей во всем нужна была определенность – даже там, где ее не могло быть.
– Надо бы скорее, – вздохнув, сказал я. – Иначе когда писать эти чертовы сценарии и пьесы?
– А когда собираешься спустить на воду судно?
– Как только сумею приобрести готовое. Построить по своему проекту никак не получится – очень дорого и долго. Надо еще организовать перевозку, доставку в порт, оформление документов для плавания по нашим, можно сказать, внутренним морям. А о том, чтобы мне разрешили выйти в океан, я и не мечтаю.
– Зачем тебе океан?
– Пошел бы себе на Таити.
– Раньше ты не скучал без тропической экзотики.
– Ну, все меняется. Когда-то ведь надо и погреться. В Арктике и летом не всегда тепло.
– Стареешь, старик!
– Старею, старуха! Это бесспорно. Уже начинаю бояться, что не все успею додумать, что надо. Раньше, сама знаешь, этим не страдал.
– А что вдруг начало волновать?
– Да все то же, только по-другому. Появляется необходимость кое-что пересмотреть.
– Что? Смысл жизни?
– В общем, да, хотя и не полностью. Но я уже осознал, что смысл жизни человека, как он его представляет, исходя из своих интересов, – это одно, а то, ради чего человек был создан природой или Богом, – это совсем другое!
– Разве?
– Ну, начать с того, что тебя и всех твоих предков не спрашивали, хотят ли они, чтобы их родили. Свои собственные, осмысленные желания и цели возникают или определяются потом. Но ведь для чего-то и кем-то была затеяна вся человеческая порода, точно так же, кстати сказать, как и любая другая? И опять-таки ни одну из пород ни о чем не спрашивали. А какое-то предназначение дали. Какое – еще надо понять. Знаем-то по существу только одно – плодитесь, размножайтесь. А тоже ради чего? Беспредельно – не получится. Можно лишь потеснить, истребить другие породы, а потом что? Помереть? Неет, здесь тайн выше крыши.
– Уж не думаешь ли ты их узнать?
– Конечно, не очень надеюсь. Но хотя бы подступиться хочу. Это-то ты мне разрешишь?
– Смотря к чему собираешься подступаться. У нас ведь марксизм-ленинизм.
Замечание было уместным. Я подтвердил:
– Конечно! На все случаи жизни, но только не моей.
– Стоит ли связываться? Тут – идеология, сквозь нее не пробьешься.
– А я и не сквозь.
– Это как?
– Не буду я говорить, что то-то и то-то верно, а то-то и то-то – нет. Лучше дам возможность самим об этом догадываться после чтения текста, а в нем не будет никакой ереси и крамолы. По крайней мере, я так хочу. В конце концов, какая главная задача у литературы, кроме создания образов? Пробуждать мысль у читателя. Причем его мысль может быть не совсем такой или даже совсем не такой, какой была мысль автора. Разве не так?
Вика смотрела на меня несколько озадаченно, потом изрекла:
– Что-то раньше в тебе не было видно самодеятельного философа.
– А теперь видно?
Она пожала плечами:
– Может быть. Только вот мой совет: будь поосторожней с обобщениями. Перестать быть издаваемым у нас очень легко.
Я кивнул.
– Отчего, старуха, ты стала наперед беспокоиться обо мне? Или разжалобил?
– Ты – МЕНЯ? Очень надо! Я только хотела предостеречь.
– Ну, и на том спасибо. Кстати, мать, у тебя такое чудное кимоно, что его ежечасно хочется с тебя снимать. Пойдем?
– Ты теперь постоянно такой прыткий?
– Я всегда был такой прыткий. Ты просто забыла.
Говоря это, я подвинулся к ней и вновь запустил обе руки под японский халатик.
– Глеб, не хулигань.
– Это ты называешь хулиганством?
– Нет, я все твое поведение считаю хулиганством.
– Это почему же?
– Это потому, что я тебе давно не жена, и потому, что ты живешь с другой женщиной.
– И это потому, – продолжил я, – что отнятое от Люды тебя отнюдь не беспокоит, а, возможно даже радует. В самом деле, что плохого, Вик, что между нами не все кончилось? Мы же не выдумываем страсть, она сама себя проявляет. Вот, посмотри.
Она посмотрела и не стала спорить. И еще на пороге спальни сбросила с себя кимоно.
Потом я довольно долго лежал рядом с уснувшей Викой и думал о ее ревности к Люде. И о том, как ей приятно взять теперь реванш. С моей стороны все происходившее не было хулиганством ни по отношению к Вике, ни по отношению к Люде. Я ничего ни у кого не крал, ибо не имел никаких обязательств. Более того, я не требовал верности ни от Вики, ни от Люды. Право слово, свобода порой бывала не только хороша сам по себе, но еще и тем, что удобна. Внезапно и бурно проснувшееся во мне желание заставило еще раз задуматься, так ли уж я был готов к отшельничеству, как мне казалось. С Людой жизнь, кстати, шла тоже довольно интенсивно – может быть, и не так, как в совсем молодые годы, но все же не вяло, далеко нет. Ей я тоже ничего пока не говорил о своих намерениях – все же впереди, до разлуки было еще полтора года, если, конечно, мы столько еще проживем вместе.
Вика проснулась не скоро.
– Ну что, хорошо пригрелся в чужой постели? – спросила она.
– Неплохо, – подтвердил я. – А как ты смотришь на то, чтобы я остался с тобой и на ночь?
– Что-то ты чересчур разбежался.
– И не говори – не могу остановиться.
– А в чем дело? Люды дома нет?
– Да, она уехала в Ярославль на неделю.
– Угу. Значит, мне предоставлена редкая честь заменить ее в постели?
– Разве дело в ее отъезде?
– Тогда что произошло? Что так усилило Вашу мощь? В Вашем-то возрасте. Мне бы хотелось разобраться в этом необычном явлении природы.