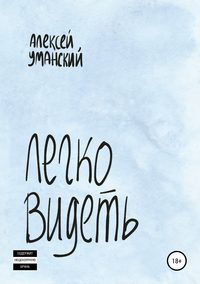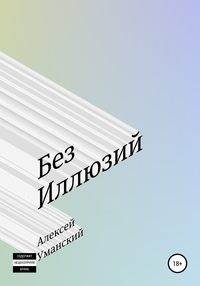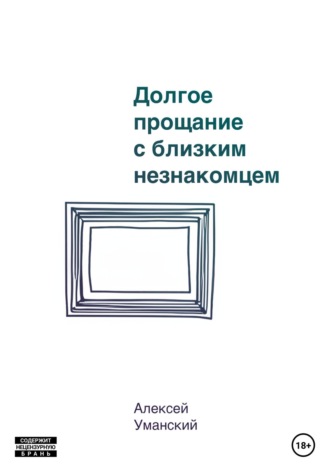
Долгое прощание с близким незнакомцем
Чукотка к западу от верховьев Чауна. Это субконтинентальный водораздел. Чаун напрямую несет свои воды к северу, в Ледовитый океан, в Чукотское море. Анадырь течет на восток в Берингово море, в Тихий океан. Большой Анюй течет на запад и впадает в Колыму, а та в Ледовитый океан, в Восточно-Сибирское море. В принципе там можно найти укромные места – об этом я знал по собственному опыту. Но… хотя там, в бассейне Большого Анюя, уже встречалась тайга, этот район весь пересекался маршрутами чукотских и ламутских пастухов. Кроме того, здесь постоянно рыскали геологи, среди которых когда-то можно было видеть и меня. Так что и эта местность не подходила, хотя в тридцатые годы именно там скрывались от раскулачивания оленьи короли Чукотки и отчасти Колымы.
Север собственно Магаданской (без Чукотки) области к востоку от реки Колымы. Здесь в основном речь могла идти только о бассейне реки Омолон, мною любимой и уже не раз посещенной. Сам Омолон, правда, не очень подходил для уединения. На нем стоял довольно крупный по северным представлениям поселок со своей взлетно-посадочной полосой, принимающей самолеты среднего калибра. А еще две очень уединенные метеостанции – одна южнее, выше по течению Омолона, и вторая ниже, там, где реку пересекает Полярный круг. Метеорологи самой своей вахтовой работой жестко привязаны к месту и далеко по собственной прихоти от станций не отходят. Поэтому быть от них в сорока-пятидесяти километрах совсем не опасно. Другое дело жители основного поселка. Они снуют на своих моторках вверх и вниз по Омолону, кто за чем. Тут тебе и рыбацкие интересы, и охотничьи, и просто хождение в гости – к пастухам оленьих стад и из стад к жителям поселка. По рассказам бывалых людей, самые глухие места были к западу и востоку от Омолона – Кедонский и Олойский хребты и прилегающие к их подножьям окрестности. О Кедоне я читал в книге известного в Магаданском управлении геолога Евгения Константиновича Устиева «По ту сторону ночи». А еще слышал из уст своего уже московского друга и первопроходца тех мест Виктора Николаевича Болдырева. Там он в свое время нахлебался лиха при столкновении практически с той же категорией людей, в которую собирался войти и я, – с укрывающимися от советской власти и раскулачивания лучшими оленьими специалистами всего северо-востока страны – с ламутами, юкагирами и их близкими родичами из совсем малых народов палеоазиатского происхождения. Виктор тогда очень сильно рисковал, проявляя служебную настойчивость (а был он послан туда руководством Дальстроя – одной из самых масштабных структурных составляющих НКВД), когда старался внушить вольным людям, что их самостоятельности хочешь не хочешь настанет конец. Вскоре их действительно оттеснили в несусветную глушь, а потом приписали к местным советам, колхозам или совхозам. Однако не всех. Кое-кто, бросив часть принадлежащих им стад на попечение штатным пастухам, распропагандированным агитаторами вроде Виктора Болдырева, ушел с лучшими оленями в еще большую глушь, в сторону Хабаровского края, где покуда не было поставлено ни одного поселка, а рельеф местности не допускал устройства даже небольшой взлетно-посадочной полосы. Так что до появления вертолетов в гражданской авиации они оставались недосягаемыми, а ко времени появления таковых, даже раньше, слава Богу, кончился всесильный Дальстрой. Органы внутренних дел и госбезопасности перестали отвечать за хозяйственно-экономическое освоение (читай – ограбление) всего Северо-Востока от Таймыра до Магадана, от бассейнов Хатанш и Индигирки до Охотского побережья, хотя и продолжали осуществлять контроль над населением края: над входом и выходом в него и из него. Это и спасло последних могикан из местных аборигенов от обобществления их собственности и насильственной оседлости. Поэтому если и существовал риск встретить кого-то в этих местах, то, скорее всего, именно их – братьев по вольному духу. Правда, пусть и в меньшей степени, имелся риск встретить геологов из экспедиций Москвы, Ленинграда, Минска и Бог знает откуда еще.
Кое-что говорило в пользу Олойского хребта, особенно его восточной части, входящей в соприкосновение с прибрежным Колымским хребтом, где было не так-то просто найти посадочную площадку даже для вертолета (а как еще сунешься сюда?), но кое-что говорило против. В стесненных долинах проще испытать на себе последствия неожиданного вторжения непрошеных гостей. Пути их подхода, как правило, не просматриваются, поэтому они могут свалиться на отшельника как снег на голову, и лучше заранее об этом знать, чтобы успеть принять меры. Какие именно? Это зависело от типа вторгающихся. Если «научники», – то одни; если беглые варнаки из Магаданских лагерей, которые, ни секунды не задумываясь, убьют, чтобы завладеть оружием и припасами, – то совсем другие. Но мысли на сей счет лучше было оставить «на потом». В смысле контроля за приближением непрошенных гостей большие удобства создавал Кедонский хребет. Он возвышался таинственной цитаделью, окрашенной в синеватые тона, над прилегающими к его подножью таежными пространствами. Дымы костров, посадки вертолетов, кое-где даже движение караванов по маршрутам можно было бы приметить задолго до их появления у дома. В смысле красоты Кедонский хребет тоже значил для меня больше Олойского – вид его будоражил душу, и в этом не в последнюю очередь был повинен его синий, иногда переходящий в пурпурный, цвет.
Удаленность от населенных мест на обоих хребтах была примерно одинакова, рыбы в Кедоне и Олое было одинаково много, дикий непуганый зверь – от сохатых до горных баранов, не говоря о медведях, – водился и там и там. С лесом для постройки и топлива тоже не должно было возникнуть проблем. Наконец, и холод зимой там был примерно одинаковый. Пожалуй, большая близость Олойского хребта к Охотскому побережью говорила о большей глубине его снегов в сравнении с Кедонским, но там его тоже хватало. Так что в целом я склонялся в пользу Кедонского варианта. И все же сначала надо было прикинуть, с чем можно столкнуться и что получить в других потенциально пригодных местах.
Южная Якутия, северный склон Станового хребта. Об этой горной тайге много писал геодезист Федосеев. В его дни – лет около двадцати тому назад – это было более дикое и неизвестное место, чем теперь. Ни карты, ни сколько-нибудь значащих населенных пунктов. Подобраться туда с юга было очень затруднительно – долго вверх по притокам Зеи, практически до самых верховьев, далее перевалы через гольцы, изъеденные цирками, захламленная тайга в верховьях притоков рек Токо, Гонама, Учура, к которым в то время, без подвесных моторов, никто не поднимался из бассейна Алдана, по крайней мере, со времен знаменитой золотой лихорадки. Виктор Болдырев еще застал ее. Сам район Станового хребта он особенно не изучал, поскольку его интересовало только одно – поскорей оказаться поближе к Алдану. Но тайгу он характеризовал как суровую, труднопроходимую и не очень-то обильную зверем и дичью, хотя и оговаривался, что их могли частично выбить, а остальных распугать бессчетные в то время «золотишники» – старатели и промышляющие на них бандиты. Трудности попадания в те края изменились мало. Правда, через Становой хребет в двух местах проложили железнодорожный путь: малый БАМ почти в верховья Гонама и Тимптона и большой БАМ – восточнее первого – на Гилюй, принадлежащий уже бассейну Амура. Нельзя сказать, что это совсем упростило задачу проникновения в нетронутые места, но кардинально положение не изменилось – по-прежнему десятки и сотни километров отделяли их от жилья, и лишь охотники-эвенки, которых в некоторых других источниках именовали ороченами (или орочами), ходили там своими излюбленными традиционными путями, в том числе, хотя и редко, через Становой хребет. Сохатые, горные бараны, сибирские косули, дикие олени-сокжои, каменные глухари, рябчики, дикуши – все это было обычной добычей. В реках хариус, ленок, таймень. Вычерпать все это богатство даже во время золотой лихорадки пришлые алчные люди так и не сумели. Поэтому оставалась надежда, что с «подножным кормом» там было вполне прилично, но это требовалось уточнить. Анализируя пути, по которым можно было добраться туда, я понял, что это будет не менее, а скорее даже более сложно, чем в район Омолона. Несмотря на это, по имеющимся у меня сведениям, шалые туристы в нескольких местах проложили маршруты, вдохновившись книгами Федосеева. Это тоже следовало иметь в виду. Большого вреда от посещения моего предполагаемого убежища туристами быть не могло, но кто мог сказать, кому они раззвонят о своем открытии и, главное, до чьих ушей этот звон донесется? Честно говоря, сама спешная постройка БАМа тяги к этим местам у меня не прибавляла.
Территория между верхним меридиональным течением Нижней Тунгуски и Чоной бассейна Вилюя. Этот район на границе между Эвенкией и Якутией привлек мое внимание в первую очередь потому, что стык двух разных и без того пустынных территорий почти всегда населен совсем мало или даже совсем никак, если не считать кочующих эвенков, а еще потому, что в верховья Нижней Тунгуски достаточно несложно перебраться по старинному перевалочному пути со стороны Лены, по которой можно сплавиться до села Подволошино от железнодорожной станции Лена в городе Усть-Кут, чей речной порт называется Осетрово. Немало раззадорил меня и писатель Юрий Сбитнев – кстати, очень хороший писатель и, судя по всему, бывший геолог, описавший эти места и населяющих их эвенков. Рыба, зверь, – все это тоже здесь было. Туристы, если и появлялись, строго придерживались основных рек и, может быть, еще волока между ними. Почему-то Сбитнев остался не очень замеченным путешествующими читателями. Должно быть, Федосеев сильно «выигрывал» у него бьющими наповал названиями: «Смерть меня подождет», «В тисках Джугдыра», «Тропою испытаний». К тому же он не жалел места для описания драматических ситуаций, которыми изобиловал его путь. У Сбитнева эмоционального драматизма было заметно меньше, зато он описывал трагическое исчезновение и вырождение чрезвычайно талантливого народа, – талантливого, в первую очередь, умением вести жизнь детей природы, не боящихся матери-тайги. Короче, Сбитнев не стал глашатаем-вестником из этих краев, и потому туристы чаще соблазнялись посещением мест к западу от описанных Сбитневым, куда – в междуречье Атары и Подкаменной Тунгуски – со вселенским шумом упал Тунгусский метеорит. Метеориту была организована колоссальная популярность через полвека после его падения – и писателем-фантастом Александром Казанцевым, и старым колымским геологом на пенсии и членом КМЕТ* АН СССР Вронским, и даже – опять-таки незаметно для общества – тем же Юрием Сбитневым! Вронский придерживался метеоритной гипотезы данного явления. Казанцев и Сбитнев (последний основывался на сведениях, доверенных ему эвенкийским шаманом) считали пришельца из космоса космическим кораблем, причем первый полагал, что корабль совершил посадку, а потом улетел. Вот на этой-то тайне и свихнулись любители природы и экзотики и год за годом посещали унылое болото междуречья, где только и было удовольствия, что искать почти исчезнувшие следы катастрофы небесного тела да кормить собой таежный гнус. Нет, в эти места меня не тянуло. Рельеф мне был нужен, явно выраженный и эффектный рельеф!
Район стыка двух хребтов Западных и Восточных Саян был, пожалуй, ближе всего к идеалу удаленности. Лишь на западе этого района шла автомобильная дорога – знаменитый Усинский тракт от Минусинска в Туву, в Кызыл, в географический центр Азии, да на северо-западе по долине Туры, Кизира и Крола шла к перевалу через Восточный Саян железная дорога Абакан – Тайшет. К востоку же от этих трасс не было вообще никаких дорог на протяжении почти полутора тысяч километров. С севера район окаймляла Транссибирская магистраль, от которой кое-где на юг отходили на сотню километров автодороги, а дальше, где на четыреста, где на шестьсот километров, до ближайшей широтной Тувинской автотрассы через Кызыл нельзя было встретить ничего – никаких путей сообщения, никаких поселков, никаких форпостов цивилизации. Зимой, в охотничий промысловый сезон, заселенными могли быть только охотничьи зимовья в долинах среди хребтов. Правда, летом там бродило и сплавлялось по рекам немалое число туристов, но они в основном придерживались нескольких маршрутов – им просто не хватало времени рыскать по сторонам, хотя это и сулило много интересного.
В Саянах – ни в Западных, ни в Восточных – я ни разу не был, поэтому мне невольно пришлось довольствоваться туристской литературой, да книгами – все того же Федосеева «Мы идем по Восточному Саяну» и братьев Федоровых «Два года в Саянах». Кроме того, я видел несколько фильмов, снятых туристами в этих местах, и поэтому могу подтвердить, что они весьма привлекательны. Об их необыкновенной красоте и притягательности красноречиво говорил и тот факт, что Федосеев завещал похоронить себя именно здесь, ближе к восточному краю хребта Западный Саян, а не где-нибудь в памятных ему отрогах Станового хребта. Море горной высокоствольной смешанной тайги, открывающееся с перевала – что может быть лучше, таинственней и желанней для человека, истосковавшегося по первозданной, доисторической основе бытия.
Реки там были хлесткие, но с мощными моторами по ним можно было подниматься довольно высоко и в очень глухие места. Если же ухитриться продвинуться еще дальше, можно считать, что тебя почти невозможно будет обнаружить, разве что с воздуха, с помощью вертолета и приборов, улавливающих инфракрасное излучение.
М-да, Саяны были мощным магнитом. Пожалуй, мне стоило специально отправиться туда, походить, посмотреть, поспрашивать на месте. Буду надеяться, что если я посмотрю на Саяны, Кедонский хребет не обидится. Туда, кстати, тоже надо будет съездить на разведку. Видеть-то синий хребет я видел, а вот побывать на нем не сумел.
Подводя первые итоги камеральной работы, я пришел к следующему.
1. В ближайший летний сезон обосноваться надолго в избранном медвежьем углу нереально. С одной стороны, совершенно необходима обстоятельная разведка в предполагаемых для долговременного пребывания местах. С другой – даже по самым беглым прикидкам, столько всего мне потребуется и таких затрат будет стоить Большое перемещение, что дай Бог успеть года за полтора набрать денег вдобавок к тем, которые есть.
2. Разведку надо провести в двух районах – Омолонском и Саянском. Как бы мне ни был симпатичен синий Кедонский хребет, стоило заодно посмотреть и Омолонский, чтобы потом не сомневаться в правильности выбора. В Саянах надо познакомиться с хребтами к востоку от Усинского тракта, принадлежащими Западному Саяну, и с хребтом Крыжина (иначе Казыро-Кизирским) – на стыке двух Саянских горных систем. Необходимо взвесить мои возможности осуществить разведку обоих районов – Омолонского и Саянского – за один летний или весенне-летне-осенний сезон.
3. Надо выяснить отдельно в каждом намеченном месте, какими путями и способами можно доставить мой груз (который еще надо подсчитать!) и можно ли воспользоваться чьими-то услугами для постройки дома. Если нет, придется планировать заезд с кем-то из знакомых, начиная с соседа Николы. Одному мне за полсезона (а больше у меня времени не будет) избу не построить.
Строго говоря, первые выводы выглядели малоутешительно. Больше того, если бы по личному опыту я не знал, что при определенной изворотливости и достаточных финансах все возможно, я решил бы, что эта затея просто неосуществима. Но не так страшен черт, как его малюют. А я должен думать и думать, предусматривать и предусматривать, как еще никогда не думал и не предусматривал во время всех прошлых своих экспедиций на суше, на море и на дрейфующих льдах. И особенно надо позаботиться о здоровье: любая мелочь могла приобрести там характер бедствия, если не знать, что делать. Тут мало набрать целую аптеку и кипу справочников, включая справочники по народной медицине и траволечению. Надо еще и провериться по всем статьям, чтобы иметь представление об угрожающих факторах.
Кое-что было ясно без всякого анализа. Зубы требовали радикальной починки. К счастью, я нашел приличного стоматолога – Марка Львовича Черногорского, типичного процветающего стоматолога, умеющего делать свои дела весело и успешно. Странной в нем была только любовь к моим сочинениям. Сугубо городской человек, никогда не путешествовавший без удобств и ездивший только на курорты, он вдруг остро почувствовал какую-то обойденность, оттого что не пер с рюкзаком сквозь тайгу и болота, не осматривался от горизонта до горизонта с горной вершины, на которую его привел мучительный долгий подъем и не ел приготовленную на костре собственноручно подстреленную дичь. Конечно, он знал, что такая жизнь давным-давно не для него, что он упустил такую возможность еще в детстве и юности, когда надо было настраивать струны своей души в унисон с тем, что звучало в ней при чтении книг о путешествиях Нансена и Амундсена, Ливингстона и Стенли, Пржевальского и Козлова, Кука и Лаперуза. Это прошло мимо. И вот теперь Марк Львович, повинуясь чувствам, отчасти разбуженным мною, выражал готовность привести мой зубной аппарат в порядок по льготной цене.
Мечтая оторваться от цивилизации, я думал, конечно, не только о ее всепоглощающей суетности, сводящей на нет любое стремление хорошо делать то дело, которое стало моим призванием. Мне требовалось уйти еще и потому, что она была намертво связана с потреблением алкоголя, губившего меня, доводившего до безволия и маразма. Чтобы не деградировать, не пасть окончательно, мне надо было избавиться от зависимости. Без этого я не мог быть до конца уверен в себе, хотя до сих пор во время полевых сезонов никогда не пил. Последнее, правда, ничего не означало. Полгода без выпивки – это еще не годы. А кроме того, я прекрасно помню один наглядный урок, который преподнесла мне жизнь. Я набирал тогда рабочих в свою съемочную партию в низовьях Колымы. Контингент был тот еще – алкаши, отбросы северных поселков. Они соглашались наняться при условии, что я разрешу им взять с собой стиральную машину, которую они каким-то образом переделали в самогонный аппарат. С его помощью они могли превращать в спиртное практически любые продукты, за исключением мяса и масла. Как знать, не обуяет ли бес и меня настолько, что я попытаюсь, по их примеру, превратить свои запасы муки, сахара, круп в отвратительное пойло? Короче, я должен быть в себе уверен и потому нужно вылечиться до конца, без дураков.
С некоторых пор я стал ощущать и покалывание, и какие-то спазмы в области сердца. Конечно, есть надежда, что после исцеления сердце само придет в порядок, но уверенности нет. Бог мой! Что я затеял! Только коснись одного, за этим сразу потянется другое, а затем третье и так далее! И все надо успеть провернуть не больше, чем за пару лет, иначе затея может потерять смысл, рискует вылиться в вечную подготовку к «бегству», а когда наконец все будет готово, на само «бегство» уже не останется времени и сил.
Да, ничего не скажешь – три категории дел: писательство – лечение – подготовка к исчезновению, включая разведку на месте. И каждая требует сил и времени, а две последние – еще и чертовой уймы денег! Куда как весело! Надо быстро определить, что купить и сделать, а после начать всю эту сумасшедшую деятельность в режиме еще худшем, чем, например, бывал у Амундсена, когда он добывал средства на очередную экспедицию чтением лекций, писанием книг и статей, изобретал и заказывал новое снаряжение, разыскивал подходящие суда или самолеты, заботился о приобретении продуктов и еще самых разных вещей.
Я сам поначалу хотел поступить примерно, как Амудсен, то есть специально для морских полярных маршрутов построить или купить что-то вроде небольшой моторно-парусной шхуны и ходить на ней вдоль чукотских и якутских берегов, заглядывая и в большие реки – от Анадыря до Хатанги, а, возможно, и до Нижней Таймыры. Судно, по моему представлению, должно было быть очень небольшой осадки, с прочным корпусом, со швертом и балластным фальшкилем по системе «компромисс», с дизельным двигателем небольшой мощности – этак до тридцати лошадиных сил, с двумя мачтами и бушпритом, с разъездной шлюпкой и надувным спасательным плотом на борту. Но по зрелом размышлении встал вопрос: как быть, если навигация возможна от силы пять месяцев, а я хочу удалиться от цивилизации на годы? Что делать с судном во время зимовок? Жить на нем? Оставлять где-то просто так или в порту? Если не оставлять корабль, тогда я больше буду служить ему, чем он мне. Если оставлять, я его потеряю в два счета.
И еще: в душе я больше сухопутный полярник, нежели моряк. Вспоминая свои рисковые походы на фанерной шлюпке и на байдаре вдоль Арктического побережья, из виденного с воды я, честное слово, не мог вспомнить ничего, кроме унылого невысокого берега, от которого следовало держаться подальше из-за мелей, на которых судно запросто может разбить даже не особенно большая волна. Воды и льды, небо, восходы и закаты, – это да, это было бесподобно красиво, но чудесная красота Земли, которая захватывала меня на Чукотке, почти нигде не ощущалась при взгляде с моря, разве что при виде таких скальных громад, как мыс Дежнева или мыс Шелагский. Обрекать душу на борьбу с унынием по полгода или больше я совсем не хотел. Возвращаться в столицу или на горно-лыжный курорт – тем более. Мне нужна была интересная деятельная жизнь, не менее интересная и деятельная, чем в морском плавании. Этого удовольствия северное побережье азиатского материка доставить мне не могло. Отсюда и возникло желание поселиться где-то в глухих таежно-гольцовых горах, вдали от моря и судоходных рек. Таким образом, заботы о приобретении серьезного судна отпадали. Зато чрезвычайно обострялись другие – насчет доставки к месту груза. Воздушным, речным, вьючным или пешим путем? И, значит, теперь надо было думать о том, что везти, чем, как и на сколько лет.
Сказать – на всю оставшуюся жизнь было бы несерьезно. Я ведь не собирался давать обет невозвращения, если новая жизнь мне не понравится. Другое дело, если этот острый эксперимент на самом деле окажется удачным. Как тогда продлевать начатое дело до тех пор, пока меня не призовут в мир иной или пока самому не надоест?
Для упрощения дела лучше было бы не набирать с собой больше, чем на два года (за исключением боеприпасов). И с этим-то неизвестно, как справиться. А боеприпасов надо брать минимум на четыре, если не на все пять лет. В тайге патронов при всем желании не добудешь. Итак, как полагается настоящему охотнику-таежнику, с того и начнем – с оружия.
Само собой, одного ружья для такой жизни мало. Нужно брать и браунинг, и бескурковую двустволку. Браунинг уже стал более привычным, чем Ижевка, но он и более требователен к качеству боеприпасов и уходу, а этого, глядишь, в тех условиях ему может недоставать. К обоим ружьям желательно иметь запасные боевые пружины. Число патронов для них в значительной мере зависело от того, удастся ли раздобыть «мелкашку», желательно магазинную. Для нее патроны весят совсем немного, их можно взять хоть две, хоть даже три тысячи, с тем чтобы добычу мелкой дичи – уток, рябчиков, глухарей, зайцев, белок, соболей, лисиц, кабарги – возложить почти исключительно на нее, а патроны и припасы к оружию двенадцатого калибра брать тогда в основном с ориентацией на крупного зверя – сохатого оленя, медведя, волка, козу, росомаху, рысь, – с которыми часто не повстречаешься. Тогда можно будет обойтись запасом, скажем, в четыре-пять сотен выстрелов. Получится общий вес оружия в 9 кг, принадлежностей к нему – шомполы, калибровочные кольца и пробки или шарики по диаметрам канала ствола, вишеры, щепки, навойники, закрутки, иглы для выбивания капсюлей из стрелянных гильз, ружейное масло – 2 кг, боеприпасов для «мелкашки» – 10 кг, боеприпасов для ружей двенадцатого калибра – 25 кг. Без особой ошибки можно принять, что все это вместе составит 36, возможно 40 кг, то есть столько, сколько едва унесет один человек. Вот тебе и первый сюрприз. А ведь это только верхушка айсберга. Прибавь сюда рыболовное снаряжение: пару спиннингов с катушками, лески, блесны, крючки – будет еще 3 кг, а с сетью скромной величины – и все 5 кг.
Теперь инструменты. Топоров – минимум два, а лучше 3, колун 1, пассатижи – 3 штуки, точило ручное и точильные бруски, тиски настольные, дрель ручная, реверсивная отвертка с набором сверл и наконечников, сверла для дрели разных диаметров, плашки и метчики, напильники треугольные плоские, полукруглые, круглые – 10-12 штук, надфили – 2 набора, зубила – 2 штуки, ножницы по металлу, простые и маникюрные ножницы, отвертки разные, стамески – 4 штуки, рубанок, большие лучковые пилы с запасными полотнами, ножовки по дереву и металлу. А еще проволока стальная и медная – метров по 20, крепежи разные, лопаты штыковые – 2 штуки, совковая – 1, еще саперная или лавинная лопата на коротком черенке – 2 штуки, гвозди разные – 3 кг. Итого примерно 16, если не 20 кг. Меньше можно? Можно, но плохо. Ведь целое хозяйство надо иметь, причем многое – не в единственном экземпляре.
Кстати, один мой предшественник в деле исчезновения из цивилизации – Эрик Кудусов – настоятельно советовал при одиночном житье в тайге иметь бензопилу для заготовки бревен на постройку дома и, главное, на дрова. А с запасом бензина это еще 30 кг. Вообще опыт этого самого Кудусова для меня определенно должен послужить примером и ориентиром. Интересный он оказался человек. Сначала его фамилия встретилась мне в одном из номеров «Катеров и яхт», где он описывал опыт создания и использования на Камчатке в волноприбойной полосе катамарана с поплавками из брезентовых «колбас», набитых надутыми камерами для футбольных мячей. Катамаран нужен был для работы – видимо, он был океанологом. А довольно скоро – через каких-нибудь три-четыре года – он выпустил книгу «Остаюсь на зимовку», в которой сообщал, что во избежание полного нервного истощения в условиях городской цивилизации он решил напрочь изменить образ жизни и отправился работать в качестве штатного охотника-промысловика в промхоз в Средней Сибири, как мне показалось, где-то на правых притоках Енисея между Подкаменной и Нижней Тунгусками, скорее всего, на реке Бахта. Наши с ним варианты «бегства» различались одним – он продал часть своей свободы промхозу, обязавшись добывать пушнину и сдавать ее государству, а я этого не хотел. Зато он получил обеспечение припасами, продуктами с доставкой их по воздуху в район промысла, а мне все это надо было оплачивать самому. Что именно привело Кудусова на грань полного нервного истощения, он в своей книге не рассказал. В конце-то концов, не все ли равно. Просто понял человек, что так жить, как живут в городах, он не способен. И нашел свой путь к исчезновению. Не абсолютному, но близкому к нему. Честь ему и хвала. Ведь он это уже проделал. Мне же только предстояло.