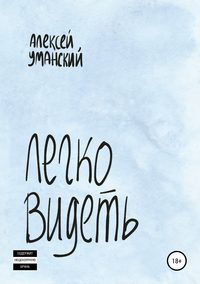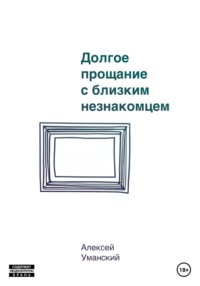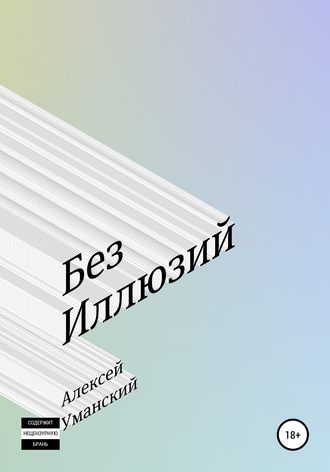
Без иллюзий
Вот так, шаг за шагом ковалась несокрушимая репутация величайшего из полководцев. Сомнения в его величии уже явно следовало считать государственной изменой. Ибо Жуков был везде, а там, где появлялся Жуков, достигалась победа. В этой атмосфере безудержного восхваления не то что «вякать», но даже и думать о том, все ли так славно было в итоговой биографии «величайшего гениального стратега», как о том в голос кричат записные патриоты на каждом шагу, было опасно. Настоящему гражданину и патриоту своей великой Родины стало просто не к лицу думать иначе, чем в согласии с официальной версией, уже десятки лет внушаемой обывателям. И в отступлениях, и в наступлениях этот гений военного дела терял минимум в три с половиной раза больше солдат, чем немецкий противник – в том числе и тогда, когда Жуков обладал многократным преимуществом над врагом в артиллерии, танках, самолетах и боеприпасах, как было, например, во время Берлинской операции. Нет, право слово, было бы незаслуженным подарком маршалу Жукову присоединиться к хору его односторонних восхвалителей и почитателей. Раз уж они хвалят своего кумира, не находя ни в нем, ни в его репутации ни малейших изъянов, то пусть и хвалят ЗА ВСЕ, за ВСЮ его развернутую деятельность.
А если так им будет неудобно или неловко интерпретировать факты, которые не вяжутся с каноническим образом исполина целиком из нержавеющей стали, с несокрушимой волей без страха и упрека, что ж, пусть проходят мимо неприятных фактов, а мы не будем.
Жуков много сделал для страны, это так. Только вот чего больше – хорошего или плохого, полезного или вредного для армии и для страны? У него были огромные возможности развернуться – действительно как ни у какого другого маршала и полководца. А что выходило? Затяжная, кошмарно изнурительная война вместо разгрома врага в первом же приграничном сражении. Везде соотношение наших и немецких людских потерь в среднем около пяти к одному (только на Халхинголе у Жукова получилось наоборот – там наши потери к японским составляли один к трем). Везде, где командовал лично Жуков во время Отечественной войны, преобладали лобовые атаки пехоты на пулеметы вместо маневренной борьбы техникой, огнем и людьми. И не надо защищать Жукова тем доводом, будто в первые два года войны войскам ничего не хватало – оттого и затыкали все дыры людьми. Воевать стало нечем по Жуковской вине – весь арсенал почти даром достался противнику или был им истреблен. И если Советский Союз выстоял и победил Германию, то не благодаря военному гению Жукова, а вопреки тому, что он делал, потому что его воля и ум прежде всего порождали горы трупов своих людей против скромных холмов трупов противника. Выходит, это главное мерило величия «нашего лучшего» полководца – сколько он положил своих, а не чужих? В саморекламе Жуков достиг действительно феноменальных результатов, в оттирании конкурентов от их достижений – тоже, фальсифицируя историю под гром оваций, аплодисментов и панегириков в свой адрес. Этому надо было положить конец, дабы не питать потомков отравленной пищей. Жуковские поклонники кричат, что они свидетели! Отчасти – да. Но и мы свидетели и современники войны. Это к нам, в наши семьи, не вернулись миллионы фронтовиков – отцов, дедов, дядей – и десятки миллионов других невоенных людей, которые погибли в войне и из-за войны. У нас тоже есть право голоса, а уж у Истины – тем более.
А для того, чтобы показать, что Михаил в своих представлениях о Жукове, его действительных поступках и исторической роли не одинок, Михаилу помогли реально воспоминания, реальные свидетельства современников самого известного советского маршала Жукова, к тому же совершенно компетентных в вопросах вооруженной борьбы с фашистским воинством. Они изложили своë виденье фактов по телевидению.
Первый из этих свидетелей – генерал авиации Попков, Дважды Герой Советского Союза, в некотором смысле прообраз главного героя известного и удачного художественного фильма «В бой идут одни старики» комэска Титаренко.
Личное «знакомство» тогда еще простого офицера и будущего генерала Попкова произошло тогда, когда он воевал в воздухе на Сталинградском фронте. Обстановка на фронте, как на земле, так и в воздухе, в 1942 году была адова. Немцы господствовали в небе как за счет того что наших в небе было мало, а их много, так и за счет того, что туда были специально направлены подразделения, состоявшие из гитлеровских летчиков – асов. Лично у Попкова на тот момент на боевом счету было шесть сбитых немецких самолетов. Это не помешало Жукову вызвать Попкова и ряд других успешно проявивших себя в боевом деле пилотов для гнуснейшего разноса. Прежде всего представитель ставки Верховного главнокомандующего Сталина и его заместитель Жуков обвинил их в трусости, что было для них прямым незаслуженным оскорблением. А чтобы у них не возникло желания протестовать, Жуков тут же заставил их присутствовать при расстреле ряда офицеров, обвиненных в невыполнении приказа «стоять насмерть». После этой показательной казни Жуков добавил живым офицерам еще один «стимул» для боевой активности военных летчиков: приказал НЕ ЗАПИСЫВАТЬ сбитые ими немецкие самолеты на их боевой счет. Более низкую подлость трудно себе вообразить.
Много лет спустя после войны Попков, глядя прямо в глаза «великому маршалу», спросил Жукова, как же он позволил себе такое, и Жуков ответил: «В тот момент я не видел другого решения». И это была правда. Он вообще ни в какой момент своей военной карьеры не находил иного решения кроме сдобренных матом угроз расстрела или разжалования в угоду своему сверхраздутому убеждению в собственной храбрости и мудрости, не говоря уже о бесконечном честолюбии.
И об этом очень ясно говорит другой свидетель – Екатерина Катукова, медицинская сестра и боевая подруга, а затем и жена первого гвардейца в Советском Союзе Дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Катукова. Екатерина Катукова практически всю войну была неразлучна с генералом Катуковым.
Во время операции советских войск по захвату Берлина в апреле 1945 года танковая армия Катукова входила в состав войск Первого Украинского фронта маршала Конева, которая должна была зайти во фланг и тыл немецкой группировки в районе Берлина, чтобы обеспечить окружение города. В канун решающей операции Катукову позвонил лично маршал Жуков: «Катуков, сделай так, чтобы Конев не смог быстро продвигаться», на что сразу понявший в чем суть дела – чтобы Жуков мог стать единственным полководцем, взявшим Берлин и соответственно присвоил себе все победные лавры – Катуков без промедления ответил: «Вы, товарищ маршал, и Конев тоже маршал. Вот и решайте кому, что и как делать между собой». – «Ах ты, мать-перемать, – тут же услышал Катуков, – да знаешь, что я с тобой сделаю? Все звезды с тебя поснимаю, мать-перемать!…» – на что последовал ответ Катукова: «Не вы мне звезды давали, не вам их и снимать!»
В итоге операция войск Конева, располагавшего куда меньшей численностью и средствами усиления в сравнении с Первым Белорусским фронтом под командованием Жукова, принесла гораздо более серьезный результат и была проведена Коневым с большими, но всë-таки вдвое меньшими потерями в сравнении с войсками Жукова, который, начиная со штурма Зесловских высот, положил за шестнадцать дней до окончательного взятия Берлина 108 тысяч человек, побуждая свои войска к победе во чтобы то ни стало к празднику Первого мая, но войска сломили немецкую оборону только второго мая.
Вот так, даже в своей последней заключительной операции во Второй Мировой войне Жуков к желанной дате готов был класть в могилу сколько угодно своих солдат, лишь бы никто другой не смог бы претендовать на победные лавры. Свои потери не заботили его всерьез никогда.
Постепенно у Михаила созрело убеждение, что на самом деле прогресс любой цивилизации был вовсе не связан со всеобщим свободным процветанием всех людей под ее крылом. Да, как правило, свобода обеспечивала гражданам общества повышение уровня материального благосостояния, но в других аспектах прогресса в том же обществе могло не быть либо никакого, либо он мог даже сменяться регрессом. Самым прискорбным неотъемлемым спутником материального процветания в современную пору стал упадок культуры в массах. Это не значило, что перестали появляться новые достижения в области науки, культуры и просвещения, однако это значило, что очень большая их часть не усваивалась обществом и не делалась достоянием большинства нормальных граждан. А причин такого положения вещей было две. Люди, в массе довольные своей обеспеченностью, ничем больше и не интересовались, кроме улучшения комфортности своего существования за счет получения новых вещей и благ – это во-первых. Власти «свободных» стран отнюдь не способствовали тому, чтобы плоды умственного труда творчески активной части общества в максимальной степени внедрялись в общественный обиход, будь то новые социальные идеи или теории, фантастические, но трудно осуществимые проекты, глубокое, заставляющее критично и самокритично относиться к действительности искусство и литература, и вообще все, способное само по себе возбуждать и беспокоить общество, угрожая стабильности жизни в нем это во-вторых.
Невосприимчивость и властей, и самого социума к большой доле производимых в его недрах интеллектуальных и культурных ценностей становилась внешним тормозом для деятельности инициативных творцов, когда обнаруживалось, что столько всего полезного основная масса землян просто не освоит: у нее не получится прослушать столько песен, концертов, симфоний, ей нельзя будет просмотреть столько спектаклей любого жанра, не удастся прочесть всех книг и реализовать сразу все предложенные изобретения – даже если все они хороши, приятны и полезны. Общество и без такого бешеного изобилия уже зашкаливает от психо-эмоциональных и умственных перегрузок – куда же тут еще! Нет, сверхмерные блага мысли и духа – это вообще не для всех, что уже было очевидно давно, судя по отношению большинства членов социума к этому изобилию. А потому бессмысленно, то есть на самом деле вредно поощрять рост продуктивности обладателей беспокойных мозгов, которая может вызвать только нежелательный резонанс в массовом сознании. Ох, как прав был в оценке будущей ситуации Олдос Хаксли, прорицая, какими способами власти будут сохранять стабильность в «этом дивном прекрасном мире»! В лучшем случае потенциальных возмутителей общественного спокойствия ждет бескровная ссылка в дальние ненаселенные края, изоляция и забвение. В худшем – уже по советским сценариям – оголтелый террор.
А в качестве транквилизаторов ненужной творческой активности массам можно предлагать попсу вместо искусства и физкультуру и экстремальный спорт, участие в религиозно-ритуальной деятельности разрешенных властями конфессий, развлекательное телевидение, кино и немного чтения – по преимуществу тоже развлекательного. Так что ласковость социал – коммунистических обещаний проявляется и здесь, в лозунге: «Каждому по потребностям, от каждого – по способностям». Ведь потребности всегда удается регулировать сверху, а способности сверх необходимого «оптимума» (определяемого опять же властями) следует либо консервировать, либо отсекать.
Нет, определенно мечта человечества о пришествии Царствия Божия на Землю к реальному воплощению в практике именно того человечества, которое сейчас населяет планету, была определенно не пригодна для осуществления. Идеалы райской жизни в действительности опрокидываются на каждом шагу даже теми, кто их знает и даже провозглашает их вслух. Когда это соответствует эгоистическим интересам властителей, они делают вид, что провозглашают эти идеалы не только для себя, но и для всех, однако когда это им не выгодно, они попирают их без малейшей задержки и сомнений с цинизмом, который они великодушнейшим образом «не замечают» за собой, а прощают себе вранье и вовсе без всякой задержки.
Те редкостные святые люди, у которых практика жизни не расходится с их высокими идеалами – вроде Франциска Асизского или Матери Терезы – которые как будто бы годились для основания улучшенной породы людей, по иронии судьбы (но скорее по Прямому Промыслу Божьему) давали обет безбрачия, и потому потомства иметь не могли, а самих их Господь за их совершенство безвозвратно забирал к Себе, в лучший Мир, о котором мы как толком ничего не знали, так и не знаем. По всему этому видно, что побуждать людей становиться лучше, чем они есть, кому-то еще удается, а вот добиться принуждением, чтобы они стали лучше, не удалось еще никому.
И с чего бы после этого ждать от своих детей и внуков какого-то особого почтения к тебе, тоже, мягко говоря, далекому от совершенства? Ты был должен – и остался должен – своим родителям, а они, потомки, в свою очередь останутся должны тебе, и будут, вроде тебя, питать какие-то иллюзии насчет пиетета в свой адрес со стороны своих детей, пока сами в канун перехода в Мир Иной тоже не поймут, что напрасно на это надеялись. Что, надо плакать по этому поводу? Нет, лучше обойтись. Тем более, что жизнь по причине дисгармонии между предками и потомками никогда не прекращалась. Всë, знаменующее отношения между поколениями, таким образом, было, есть и останется неизменным. Нравится ли нам такой порядок вещей – это уже другое дело. Но нас об этом не спрашивают, просто дают возможность уклониться от действующего стандарта не только в худшую, но и в лучшую сторону. Если последнее нам иногда удается, уже можно говорить о большой жизненной удаче. Конечно, это еще не само счастье, но немалый шаг к нему. А если за этот удачно и правильно выполненный шаг дается еще и любовь, на которую ее объект отвечает взаимностью, а непреодолимых барьеров между любящими нет, то это уже настоящее, полноценное счастье, вполне осмысливающее прожитую жизнь! О Большем, видимо, и мечтать бесполезно: дети будут жить сами по себе, внуки – тем более, а потому посвящать себя кому-либо до конца, кроме любимого человека, любящего тебя, бесполезно, да и не имеет смысла. Однако посвящать себя какому-либо благому призванию надо всегда. Не уважать в себе Дар Божий столь же преступно, как и профанировать любовь. Можно оспаривать справедливость законов, выработанных людьми, но нельзя воображать, что человеку по силам улучшить Законы Божественные, которые, кстати сказать, он еще и не удосужился осознать в полном объеме, тем самым еще раз доказывая, что тягаться с Божественной Мудростью ему никак не к лицу –ни по уму, ни по своим представлениям о справедливости и несправедливости той участи, на которую он обречен. Естественно, каждому хочется в целом легкой и приятной жизни, но если жизнь в действительности совсем не такова, и человеку хочется возопить: «Господи, за что?!», об этом все-таки лучше сначала спрашивать не Всевышнего, а себя самого.
Это очень сложная, во многом неприятная работа – рассматривать собственные поступки, как вольные, так и совершенные по принуждению, с разных сторон: со своей и противника, с личной и с общественной, с восторженной и с трезвой. Возможно, хорошо попрактиковавшись в этом разностороннем рассмотрении любого желания, любого процесса, любого предмета мысли, удастся хоть в какой-то степени успешно постигать Божественный Промысел и Справедливость того, что происходит по Воле Творца.
Старая русская пословица гласит, что кашу маслом не испортишь. Точно так же трудно испортить себе правильное представление о жизни во всем, что в ней есть, проявляя взыскательность к себе и критичность в собственный адрес. Но и этим неприятности для желающего правильно мыслить человека не исчерпываются – после получения верного, истинного представления о себе надо будет учиться делать себя лучше и добиваться успехов в том, чтобы не соблазняться кажущимися выгодами, если не все ясно с тем, во что это со временем обернется. Обуздывать себя в страстях и желаниях надо сейчас, а позитивный эффект это может дать лишь потом, да и то без гарантии, что он непременно будет достигнут.
Глава 18. Эпилог.
Считается – и вполне разумно – что истинность теории проверяется ее соответствием практике, то есть тому, что происходит в действительности независимо от желания автора теории. Но человеческая жизнь, насколько можно судить, не описывается никакой определенной теорией, известной людям. Они способны абстрагировать для себя лишь некоторые фрагменты истины на основе своих наблюдений, но, главным образом – на основе анализа своих ошибок и прегрешений. Собственные ошибки были и остаются главным материалом, побуждающим к переосмыслению своего поведения и к выработке новых правил своего поведения ради достижения личного прогресса в любом аспекте бытия – в духовном, мыслительном, чувственном, телесном, если действительно есть стремление делаться лучше, чем прежде.
Но у нас есть весьма ограниченные возможности для верной самооценки – критерии, которые мы привыкли использовать для этого, трудно считать надежными и незыблемыми. К ним больше подходит другое определение – желаемые, а желаниям – то как раз очень часто сопутствуют нетерпение и заблуждения.
Потому-то итоговую оценку своей жизни на этой Земле каждый человек получает от своего Создателя после того, как он пройдет ее. Персонажи, действующие на арене данной книги, могли бы быть разделены на три категории. К первой можно отнести тех, кто уже определенно закончил свой земной путь, ко второй – тех, кто пока еще не достиг все равно неизбежного перехода в Мир Иной, к третьей же тех, чья судьба не известна автору или не сочинена им в подкрепление его представлений о сущности жизни – выдумка же здесь не всегда уместна. Из литературных жизнеописаний не должно торчать каркаса схематических конструкций, чтобы это не вредило убедительности литературы в том, что в ней действительно соответствует жизни. А в ней – то как раз происходит всякое. Из четырех близких, но не родных братьев Михаила Горского, остался в живых один Сергей. Родные братья Михаил и Владимир Горские, а также Марк Нилендер покинули этот мир раньше самого старшего из них. Все они успели проявить свои способности к творчеству и доказали, что эти способности были не даром им даны. Михаил Петрович Данилов – обладатель универсального энциклопедического ума, в том числе приложенного к ряду практических задач – при более внимательном к нему отношению со стороны всего человечества наверняка сумел бы сделать больше того, что успел передать людям до своей кончины. Еще раньше всех них скоропостижно скончался прекрасный человек и походный друг Михаила Коля Кочергин.
Александр Вайсфельд успел сделать для себя много такого, что в первую часть его жизни казалось ему правильным и удачным, а в завершающей части – нет, хотя именно в ней у него появилось убеждение насчет того, в чем он мог бы найти истинную гармонию, но познать ее в достаточной полной мере ему уже не удалось.
Прилепин из потенциально пригодной для творчества личности превратился всего лишь в непрерывно действующего курильщика и алкоголика явно на почве гнетущего его представления о провале своих надежд на крупные успехи в науке – и умер он раньше, чем успел воплотить хоть что-то из вертящихся в его голове мыслей. То же самое внутреннее разочарование постигло и Виктора Титова-Обскурова, вообще говоря, далеко не лишенного способностей, но употребившего их только на осуществление своих карьерных планов и на получение садистских удовольствий. Его снедало и таки догрызло властолюбие, когда он уже потерял над другими людьми всякую власть.
Свояк Михаила Горского – свекор его дочери Ани, бывший член политбюро ЦК КПСС, в заключительной части жизни успел сделать главное: деятельно и целеустремленно привести власть своей партии к полному краху.
За это в высшей степени богоугодное дело он был удостоен столь же Великой Милости Небес ему было Дано скончаться буквально на полуслове, когда он увлеченно развивал какую-то мысль и совершенно не думал о смерти. Вряд ли можно представить какую-то иную более явную и значимую награду человеку за его благой жизненный труд. (Кстати, это произошло на глазах у дочери Михаила Ани). Сусловым, Брежневым и Андроповым ничего похожего не обломилось.
Во все более редеющем привычном человеческом окружении, хочешь – не хочешь, надо рассматривать и свою кандидатуру на выбывание. Всякое сообщение об очередной кончине кого-то из близких или знакомых, как бы оно ни было грустно само по себе, уже не вызывало ни особой жалости к судьбе покойного, ни чувства облегчения, что пока это все-таки кто-то другой, а не ты, потому что на самом деле надо было жалеть остающихся без дорогого им человека, и на передний план выдвигался вопрос: а когда же ты? Долго ли еще Господь Бог будет придерживать тебя здесь, где пока не всë вокруг изменилось для тебя до неузнаваемости? Или другой – еще страшней первого: как жить, если останешься без самого любимого человека? Или каково придется ему, если он останется один без тебя? От этих мыслей действительно становится муторно. На фоне такой тревоги все остальные беспокойства просто меркнут.
И тем более перестают занимать отношения с теми, кто не был особенно близок. Если ты и прежде на них не больно-то рассчитывал, то теперь и вовсе не сможешь. Даже если они в прошлом не раз рассчитывали на тебя и ни разу не пожалели об этом.
Слава Богу, Михаил убедился в том, что ждать каких-то значимых проявлений благодарности от своих подчиненных по большому счету не имеет смысла, еще задолго до того, как понял то же самое насчет детей и внуков. А к чужим по духу людям особых чувств у него и так не возникало никогда.
Саша Бориспольский в роли директора скромного информационного института пробыл не очень долго, вряд ли больше пяти-шести лет. По какой причине от него отвернулась удача, не было известно, но Саша из-за этого не унывал, что, пожалуй, даже делало ему честь.
По-видимому, он больше не посещал кружок авгуров от информации, который сложился вокруг Антипова, но из-за этого тоже не страдал! Зато он снова сомкнулся поближе со своими давними друзьями, от которых несколько отделила его прежняя высокая должность, и даже дважды приглашал Михаила с Мариной к себе на день рождения. Там все было почти как в давние времена, разве только без Саши Вайсфельда, хотя и с Ламарой.
Однако не только Марина, но и Михаил, знавший присутствующих куда дольше ее, не испытывал на этих встречах особого воодушевления. Разговоры в компании повторялись старые, уже неоднократно выслушанные. Единственным обновлением в них оказывались сведения о новых европейских и азиатских горно-лыжных курортах, на которых за «отчетный год» побывали хозяин дома и некоторые из его гостей. Судя по их разговорам между собой, они являлись людьми, довольными своей жизнью. Конечно, они хорошо представляли себе, что с другими, причем большими, деньгами они могли бы жить еще лучше, но и так получалось хорошо и интересно. А что до науки, которой они вроде бы служили, исходя из внутренних побуждений, то она действительно работала им на пользу, у кого-то отчасти занимая мозг, как, например, у Вити Белозерова, или у самого Александра Бориспольского, который читал лекции по курсу информатики в гуманитарном университете и благодаря своей докторской степени получал максимально высокие деньги за труд. Но вот наука от них в ответ получала либо совсем мало, либо совсем ничего. Да, обычно они знали то, что другие научные работники узнавали раньше их и БЕЗ них. Но на новации по существу никто из них не оказался способен. В силу амбиций они на словах покушались на это – а как же иначе! – но задача оказывалась неподъемной, а ум слабоват. Критицизма хватало всегда, и надо сказать, власть от них получала свое по заслугам. Скептицизма к научным новшествам хватало тоже, но абсолютно без всякой критики и на ура встречались модные и модерновые штучки, если они порождались в тех кругах и слоях, которым, по мнению людей типа Бориспольского, только и могла принадлежать монополия на прогресс – все остальное находилось за пределами правового поля. В этом они были внутренне убеждены. Зато ораторствовать по любому поводу они любили и умели. Наблюдая за бывшими младшими по возрасту коллегами, Михаил с усмешкой думал о том, что им было бы уместней заниматься парламентаризмом, чем наукой, но, несмотря на их явную пригодность к работе в говорильне, они все-таки не сделались циниками в той степени, чтобы стать завзятыми политиканами и заинтересовать собой обладателей денежных мешков, ищущих рупоры для публичной защиты их интересов. Они везде застревали на полдороги, кроме как в своем кругу. Вот там они были почти сами собой, но тем не менее, оставаясь несвободными по всем статьям, за исключением одной – свободы упоения разговорами. Для посторонних они были неинтересны, и потому Михаил чувствовал себя в знакомой компании все более и более посторонним.
От Бориспольского Михаил случайно узнал, что уже довольно давно нет в живых человека, которого он искренне уважал как раз за то, чего не было у большинства знакомых информационщиков – за принципиальность и твердость в убеждениях, за способность самостоятельно идти нехоженым путем. Это был Евгений Николаевич Казаков, Женя, на которого можно было положиться во всем. Как и двоюродные братья, он тоже уступал Михаилу в возрасте – и, тем не менее, уже не стало и его.