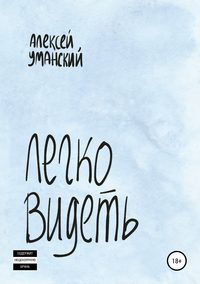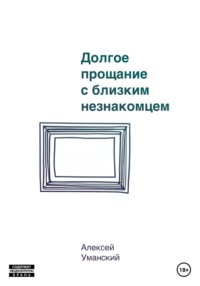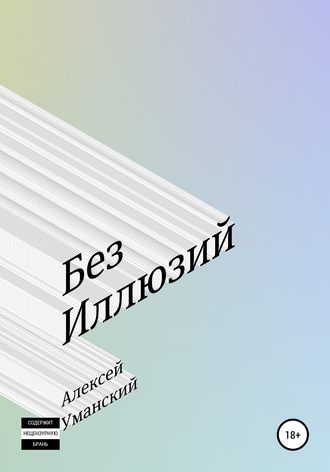
Без иллюзий
У Сталина в пользу Жукова мог найтись и еще один мотив – уже не военный, а политический. Если вину за отступление (разумеется, за отступление, а не за полный разгром!) возложить на Павлова и окружавших его генералов, это послужат остальным фронтовым командующим хорошим назидательным уроком и в то же время не создаст у народа впечатления о том, что плохо не на одном Западном фронте, а везде – от Черного моря до Баренцева, тогда как в случае обвинения в неудачах самого главы генштаба всему советскому народу станет понятен уже другой, гораздо более убийственный масштаб сокрушительного поражения Красной Армии.
И Сталин принял жертву, подсказанную Жуковым. Павлов и ряд других генералов из его подчинения были убиты сначала морально, затем физически – причем навсегда. Жуков, пока был жив, не позволял никому даже пикнуть что-то насчет их посмертной реабилитации, тем более, что и помимо него оставалось полно заинтересованных лиц, чтобы ничего в этом деле не пересматривать.
Однако, почти невероятно, но факт, что даже в этой чудовищной обстановке почти тотального разгрома советских вооруженных сил имели место и события совсем другого характера, причем и выявились люди, не поддавшиеся страху нарушить своей воинской подготовленностью директиву Жукова, запретившего таким путем «провоцировать» немецких фашистов, не впавшие в ступор перед появившимся противником, и без промедления ответившие ударом на удар.
В первую очередь это относилось к наркому военно-морского флота адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову и его главному военно-морскому штабу. Он отдал в самый канун войны на свой страх и риск в связи с очевидностью неотвратимой угрозы военного нападения Германии директиву всем западным военным флотам СССР: Черноморскому, Балтийскому и Северному – дать отпор немцам всей мощью их оружия. Результат был налицо: при «внезапных» воздушных нападениях гитлеровской авиации на военно-морские базы Советского флота никакого серьезного ущерба ни кораблям, ни береговым сооружениям нанесено НЕ БЫЛО. Этот отпор агрессору, данный со стороны флота, находился в разительном контрасте с тем, что творилось почти повсеместно на сухопутье и должно было рассматриваться не иначе, как обвинение в адрес Жукова и пощечина его «победоносной» репутации (пройдет время, и уже после войны Жуков Кузнецову за это хорошо отомстит). Воспользовавшись тем, что итальянским боевым пловцам из команды князя Валерио Боргезе удалось взорвать в Севастопольской бухте трофейный итальянский линкор «Джулио Чезаре», получивший в СССР новое имя – «Севастополь», а из-за глупого, бездарного поведения адмирала Пархоменко, который находился на борту «Севастополя» и отменил приказ дежурного офицера дать ход и посадить линкор на мель, линкор остался стоять на месте, пока не перевернулся вверх килем и через некоторое время затонул, унеся под воду многие сотни людей в трюмах корабля, поскольку Пархоменко не разрешил эвакуировать экипаж, а сам отделался легким испугом. Его даже не разжаловали. Зато стараниями министра обороны Жукова Кузнецов был смещен с должности военно-морского министра и понижен в звании из адмирала флота Советского Союза до вице-адмирала).
Другим примером положительного характера, уже на сухопутье, надо было считать успешные наступательные действия армии Юго-Западного фронта под командованием генерала-лейтенанта Андрея Андреевича Власова. В то время он еще отнюдь не являлся предателем родины, а как раз наоборот – был предметом гордости Красной Армии. Основной задачей Юго-Западного фронта был захват нефтяных румынских месторождений в Плоешти, без продукции которых Германия не могла бы продолжать войну. Дело заключалось вот в чем. Своих месторождений немцы не имели, и поэтому вынуждены были поить моторы самолетов, танков, подводных и надводных кораблей, автомобилей синтетическим жидким топливом, которые получали путем перегонки угля. Но даже искуснейшие немецкие химики не сумели создать технологию получения искусственного жидкого топлива без добавки в него какой-то доли натуральной нефти.
Именно на этом направлении советские войска 22 июня 1941 г перешли в наступление, и оно шло вполне успешно, пока ситуация на их правом фланге не стала угрожающей – там наши войска быстро отступали, и над наступающей армией Власова нависла серьезнейшая угроза оказаться в окружении глубоко в немецко-румынском тылу. Пришлось прекратить наступление и срочно начать ретираду. Она была проведена организованно, грамотно и успешно. Генерал Власов твердо управлял своими войсками, и это сразу было отмечено Сталиным. Потом руководимые им войска отличились и в битве под Москвой. После этого Власов стал очевидным кандидатом на пост командующего усиленной Второй Ударной армией, которой была поставлена задача деблокировать Ленинград вместе с отрезанными от главных сил войсками Ленинградского фронта, согласованными встречными ударами по немцам с двух сторон. Судьба этого наступления с юга на север сначала складывалась весьма удачно. Армия, имеющая огромный конный транспорт, легко прошла по зимнему времени лесами и болотами через немецкие порядки и стала быстро продвигаться по неудобьям для техники в сторону Ленинграда, но, дойдя до линии железной дороги, захваченной немцами, была остановлена прочной обороной, а в это время тылы Второй ударной были отрезаны немцами от остальных советских войск. Началось бесперспективное пребывание армии Власова в котле. Встречного удара по немцам со стороны Ленинградского фронта также не получилось. Немцы активных действий против Второй ударной не предпринимали, даже без особых препятствий пропускали в котел свежие дополнительные войска, но обратно их уже не выпускали. Да и товарищ Сталин по совету своего заместителя по Верховному Главнокомандованию Жукова вовсе не хотел идти навстречу настоятельным требованиям Власова разрешить возвращение к своим из котла до того, как армия перемрет от голода. Пока что ее спасали тела павших от голода лошадей – это был единственный источник питания, но, когда, уже весной 1942 г начались теплые дни, конина окончательно испортилась, и продовольственный вопрос достиг величайшей остроты. Но и в этих условиях Сталин не торопился спасать голодающую армию от бессмысленной смерти, а Жуков, его заместитель, тем более. Он уже не был начальником генштаба. Этот пост снова занял с июля 1941 года маршал Шапошников, крайне больной человек, на прием к которому генералы записывались только после санкции товарища Сталина. Какова была позиция Шапошникова по вопросу вывода Второй Ударной армии, Михаил не знал, но какую позицию занял на этот счет Жуков, у него никаких сомнений не было – точно такую же, какую он занял по отношению к армии генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, брошенной в наступление под Вязьму и там попавшую в окружение как благодаря усилиям немцев, так и благодаря плохому взаимодействию с другими армиями, брошенными Жуковым в наступление, но остановившимися раньше Ефремова.
Ефремов, видимо, не случайно продвинулся дальше своих коллег в немецкую оборону. Каков был по своим качествам полководца этот генерал, пожалуй, больше и лучше слов свидетельствует один факт. После снятия и ареста генерала армии Павлова его разгромленный Западный фронт из отступающих войск и из свежих подкреплений возглавил генерал-лейтенант Ефремов, и именно при нем под Смоленском было впервые остановлено и задержано на целый месяц наступление немцев на Москву. Тем, кому не ясно из этого события его стратегический значимости для ВСЕГО дальнейшего хода войны, надо пояснить следующее. Немецкие генералы, разрабатывавшие план войны с СССР, предупредили Гитлера, что добиться победы можно будет, только выиграв молниеносную компанию в течение летнего-раннеосеннего сезона. Затяжная война с Советами выиграна быть не может. Гитлер согласился со своими стратегами, очевидно, вспомнив также опыт Наполеона, и утвердил план победоносного блицкрига. Так вот – именно в Смоленском сражении, продлившемся целый месяц, и был похоронен блестящий план молниеносного захвата Москвы и западных областей Европейской части СССР. После Смоленской битвы самые умные из Германских военных аналитиков, несмотря на многие новые крупные победы вермахта, уже знали, что концом войны будет полный разгром Германии.
Как должен был реагировать Жуков на эту в высшей степени важную стратегическую паузу в немецком наступлении, выигранную у противника под руководством генерал-летейнанта Ефремова? А очень просто в соответствии со своей натурой. Лучше всего было бы приписать этот успех себе, но прямо не получалось – Западным фронтом в этот период командовал Ефремов, а не Жуков, и Сталин конечно, это прекрасно понимал. Тогда Жуков убедил Сталина срочно создать между войсками Западного фронта и Москвой новый – Резервныйфронт. Оба они понимали, что Ефремову против массы переброшенных против него новых немецких войск долго под Смоленском не продержаться, что линия фронта раньше или позже (но скорее раньше) будет все-таки прорвана, и тогда останавливать немцев будет уже негде и нечем. Резервный фронт был срочно создан, и Сталин поставил Жукова на пост его командующего. После прорыва Западного фронта немцами, его отступающие, но еще уцелевшие части были влиты в Жуковский Резервный фронт, который тотчас снова стал Западным. Этим формальным актом Жуков узаконил свои исторические претензии на ключевую роль собственной личности в проведении Смоленского сражения. Большего для себя он пока что получить от Ефремова или вместо Ефремова не мог. А свое положение будущий Маршал Советского Союза в это и отчасти в последующее время представлял, тем не менее, как не больно-то прочное. У Сталина перед глазами вместо всего одного-единственного способного генерала-полководцаЖукова-теперь маячили и другие фигуры, о которых он, памятуя приграничную катастрофу, так и не прикрытую полностью трупом Павлова, вполне мог подумать, что они даже способнее Жукова. Кто? Да те же генерал-лейтенанты Ефремов, Власов и очень хорошо показавший себя под Москвой генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский – бывший комдив Жукова, когда тот был всего комполка. Что с этим было делать? Ну, ладно, под Москвой все эти трое были под начальством Жукова, и все их суммарные успехи он считал себя в полном праве приписать лично себе. Но так можно было вполне замолчать только роль Рокоссовского, тем более, что он был ранен и находился на излечении, в то время как у Ефремова и у Власова имелись и другие заслуги, которые при всем желании Жукову нельзя было приписать себе. И вот в ходе успешного Советского контр-наступления под Москвой Жуков вдруг понял, что у него есть отличный шанс поломать очень уж хорошую репутацию генерала Ефремова. Всем советским наступающим армиям в то время многого не хватало, но на просьбы и требования Ефремова присылать ему боеприпасы и продовольствие должной положительной реакции не было. Поняв, что в этом случае армия умрет в окружении без всякой пользы для Родины, Ефремов настаивал на разрешении пробиться назад к своим, пока у него есть еще кто-то и что-то. Жуков требовал оставаться там, где армии Ефремова уже невозможно было оставаться. Историки установили, что в ходе обмена мнениями подчиненного Ефремова и командующего Жукова последний не поленился записать в служебной аттестации Ефремова, что он недисциплинирован, неисполнителен, неинициативен в роли командующего армией (чтобы и дураку было понятно раз не справляется как следует с армией, куда уж ему управлять фронтом?). Наконец, когда положение в армии Ефремова стало совсем отчаянным, Жуков разрешил отход. Естественно, тогда уже было поздно. Голодные, обмерзшие, почти без боеприпасов войска уже не могли вырваться из окружения через немецкие боевые порядки – у противника благодаря Жукову было вдоволь времени, чтобы хорошо подготовиться к отражению прорыва. Ефремов был ранен, а когда стала ясна прямая угроза попадания в плен, он застрелился. Немецкий генерал, командовавший войсками на этом участке, приказал похоронить вражеского генерала с воинскими почестями в знак признания его исключительной боевой доблести и в назидание собственным подчиненным насчет того, как надо воевать и умирать.
Жуков, естественно, похоронил Ефремова без салюта, зато окончательно и навсегда. А то, что доблесть генерала Ефремова была столь высоко оценена врагом, можно было аккуратно интерпретировать и в несколько ином духе: «а не была ли Ефремовым проявлена доблесть в адрес противника и в ущерб собственной армии?»
Теперь все внимание было перенесено на Власова. Жуков прекрасно понимал, что мобильность Второй Ударной армии на конской тяге очень относительна. Да, она позволяла идти сквозь леса и по подмерзшим болотам, из-за которых немцы и не удалялись от захваченных железных дорог. Но чем можно было кормить в таком наступлении массу лошадей? Столько фуража, сколько надо было иметь на несколько недель глубокой и тяжелой операции, они, то есть лошади, везти на санях не могли – в них были люди, боеприпасы, продовольствие для людей, а сено – разве что для подстилки. Единственное усиление, которое могла себе позволить в рейде по такой местности Вторая Ударная армия, была артиллерия – полевые пушки еще царского образца калибра 76 миллиметров. Для преодоления прочной немецкой обороны вдоль железных дорог (а в том, что она прочна, сомнений быть не могло) ни мощности огня такого орудия, ни числа стволов было явно недостаточно, что и подтвердилось на практике. Гибнущих с голодухи лошадей постреляли, пока они еще годились для еды людям. Это позволило Власовской армии держаться внутри котла дольше, чем армии Ефремова. Ну что ж, Жуков готов был подождать с разрешением Власову на прорыв из окружения дольше, чем Ефремову. Перспектива бессмысленной гибели второй армии второго его конкурентного врага его нимало не беспокоила, лишь бы рядом с ним не оказалось военного специалиста, способного показаться Сталину более умным и дельным стратегом, чем Жуков.
Сценарий устранения «пищевого конкурента», как сказали бы зоологи, был уже успешно апробирован на Ефремове. То, что его армия погибла, Сталина не очень удручило – у него уже столько армий сгинуло на разных фронтах и в разных котлах, что одной больше – одной меньше особой разницы для него не составляло. На этом фоне потеря еще одной, правда, очень крупной Власовской армии, тоже не выглядела уж очень крупной катастрофой. Тем более, что еще перед началом рейда Второй Ударной Жуков успешно осуществил кабинетно-штабную операцию: с его подачи Сталин возложил координацию взаимодействия этой армии с войсками Ленинградского фронта на совершенно бездарного маршала Кулика. Таким образом за срыв стратегически важной операции по деблокаде Ленинграда в случае чего должен был отвечать не Жуков, а Кулик. А тут еще и сам Власов помог, так что даже не потребовалось портить ему служебную аттестацию – он сам ее начисто перечеркнул.
Надо думать, отличающийся большими умственными способностями Власов знал об участи Ефремова и понял, по чьей воле она таковой получилась. Примерить ефремовскую ситуацию к своей персоне не составляло труда. Без всяких слов было ясно, что Кулик никакого встречного удара по немцам со стороны Ленинграда не организует – и сил там для этого не хватало, и Кулик со своим военным «дарованием» не внушал никаких надежд на то, что он способен будет сделать что-нибудь «по уму». А поняв, ради чего была послана на бессмысленную гибель его Ударная армия и что за всем этим в критический для Родины час стоит гнусное эгоистическое честолюбие одного генерала, который мечтает стать величайшим полководцем, но умеет только одно (не считая Халхин-гоа) – присваивать себе чужие победы и успехи, пододвигая к гибели их настоящих авторов. И этот анти-патриот, душегуб собственных войск, несмотря ни на какие свои сверх – художества остается в чести у тирана-хозяина страны, которому все равно, во что обойдется народу его победа! Нет, таким гнусным варварам, истребителям народа своего и собственной армии, человеку с умом и талантом служить невозможно – это просто противно природе вещей. Жуков ждет, что он застрелится, как Ефремов? А с какой стати? Лишь бы больше не было препятствий для продолжения успешной жуковской карьеры? Это насколько же надо не уважать себя, чтобы лить воду на мельницу этого мерзавца, да еще и добавить в эту воду собственную кровь?
Известно, к чему привели размышления генерал-лейтенанта Власова в канун катастрофы, постигшей большую часть войск его Второй Ударной армии. Он не застрелился, а сдался немцам в плен и – больше того – стал идейным врагом большевистского сталинского строя и пошел на бесперспективный для него самого сговор с врагом, предложил создать из ставших военнопленными из-за бездарности Сталина, Жукова и иже с ними русских людей, которые массами умирали с голоду в немецких лагерях, Российскую освободительную армию (РОА) с командными кадрами исключительно из русских же офицеров и генералов. Этот план был принят и одобрен Гитлером. Власов стал командующим РОА, произвел в лагерях агиткомпанию и набор военнопленных в воинские части РОА и решил до конца посвятить себя борьбе с людоедским большевистским строем в родной стране. Набором людей в РОА он в первую очередь спасал их от голодной смерти. Немцы не спешили выставлять части РОА на фронт против советских войск, как об этом принято думать со слов советской пропаганды. Им настолько покуда не доверяли – очевидно, в первую очередь, потому, что весь командный личный состав был там русским сверху донизу. Параллельно немцы на базе советских военнопленных создавали и части другого типа – в них командный состав был уже немецким, но и на эти части советские пропагандисты перенесли клеймо «власовцев». Да, предателями Родины с точки зрения советской воюющей стороны были и те, и другие – что действительно власовцы, что и немецкие части из русских солдат. Но если первых немцы на фронте почти не использовали, то вторых бросали в самое пекло очень часто. И тогда они сражались отчаянно настолько, как и самим мастерам военного дела – немцам – не снилось. Это они, в частности, в глубоком тылу после советского окружения держали больше месяца город Бреслау, хотя Власов и РОА тут были ни причем.
Зато Власов и РОА оказались очень даже причастны к другой важной операции, о которой советская пропаганда как в рот воды набрала. Когда в начале мая 1945 г восстала против немцев Прага, и на подавление восстания были брошены эсэсовские части, вовсе не войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева разгромили эсэсовцев – они просто не успевали завершить свой бросок через Судеты до того, как немцы уничтожат восставших, взывавших о срочной помощи – это сделали войска РОА, настоящие власовцы во главе со своим генералом. Потом все они были захвачены в новый плен, и судьба их была решена. Кого ждал расстрел, кого каторга в сталинских лагерях, а Власова после военного суда – смертная казнь по тому образцу, который использовал Гитлер для заговорщиков против своей персоны, устроивших неудачный взрыв в «Волчьем логове», где располагалась гитлеровская ставка, Главные участники покушения были тогда подвешены за челюсть на мясницкие крючья, и это так понравилось Сталину, что он именно данный способ мучительного умерщвления взял на свое вооружение и применил его как к Власову, так и к старому знакомому по Гражданской войне – к белоказачьему генералу Краснову – этот когда-то лично противостоял великому вождю советского народа во время обороны Царицина. По слухам, тот же способ покончить с изменником Родины Пеньковским был санкционирован и преемником Сталина на посту высшей власти Хрущевым.
Гадать в настоящее время, могла ли быть организована операция по деблокаде Ленинграда более основательно, с хорошими шансами на успех, а не так, когда на убой послали армию Власова, теперь вряд ли актуально, но ясно одно – без большой концентрации техники такой, как артиллерия, авиация и танки, победа была невозможна, что и показала реальная успешная операция по прорыву блокады в 1944 году. Героическая, но как оказалось, бесполезная эпопея по удержанию войсками Ленинградского фронта плацдарма на Невской Дубровке на левом берегу Невы, обошлась советским войскам, так и не превратившим этот плацдарм в стартовую позицию для нанесения немцам удара навстречу армии Власова, по оценкам специалистов, примерно в 500.000 человеческих жизней – там с конца войны и до сих пор все раскапывают и раскапывают слой за слоем останки воинов, оказавшихся на этом насквозь простреливаемом пятачке всеми видами немецкого оружия. Слава Богу, Владимир Путин – старший, отец президента Российской Федерации, побывавший в этом аду, после полученного ранения был переправлен через Неву к своим и сумел выжить, но подобное счастье обломилось немногим. В основном люди там пропадали с концами. Выходит, не иначе, как чудом России повезло получить от Владимира Путина – старшего сына и нового правителя, оказавшегося способным управлять страной при выводе ее из пике, в которое она свалилась при переходе страны от «социализма» к капитализму.
Ну, а что стало в стране победившего капитализма с репутацией главного наградоносца советского времени (не считая дорогого Леонида Ильича Брежнева) – четырежды Героя Советского Союза маршала Жукова? А ничего плохого. Она была лишь укреплена в сознании многих граждан путем очень простенькой операции – Жукову, помимо всего, что он с помощью своих мемуаров издание за изданием приписывал себе сам – пропагандисты советского милитаризма, который прав и победоносен «всегда и везде» – переписали на личный счет Жукова буквально все, что только числилось прежде за самим товарищем Сталиным. Большинство генералов и офицеров, уцелевших на войне и доживших до глубокой старости, именно потому и сохранились, дожили до новой эпохи, что мало бывали или совсем не бывали «на передке», зато, возглавляя разные ветеранские организации, провозгласили именно Жукова величайшим полководцем современности.
Им не было дела до того, что солдаты, знавшие безразличие великого маршала к их жизням, называли его по-солдатски же точно и прямо мясником. В своих мемуарах Жуков не писал, что имел обыкновение гнать пехоту в атаку за атакой на неподавленные пулеметы и артиллерию, прогонял войска колоннами по минным полям, довольствуясь «восхитительным» аргументом – что потери при этом не больше чем от пулеметного огня (этой ценной мыслью он поделился с оторопевшим генералом Дуайтом Эйзенхауэром). Он не сознался в мемуарах, что именно им, по его инициативе, две трети советских войск были сосредоточены на Центральном фронте, который в 1942 г под его руководством так и не сумел не то что вышвырнуть немцев за пределы России, как обещал Сталину, но даже и Ржева не взял (его немцы сдали только в 1944 году), в то время как две трети своих сил вермахт бросил на Сталинград и Северный Кавказ. Это по его стратегической «милости» страна во множестве больших и малых военных операций потеряла больше 14.000.000 людей на полях сражений (по словам товарища Сталина, заявившего Черчиллю, что каждый Божий день СССР безвозвратно теряет 10.000 человек, в то время, как союзники не чешутся открывать второй фронт, а война-то длилась 1.410 дней!). Если Сталину нести такие потери было не слишком жалко (хотя именно ему надлежало думать о восполнении убыли резервами), то Жукову как военному надлежало думать о сбережении войск, относясь к ним хотя бы как к дорогостоящему инструментарию. Но нет, он и на войне этим пренебрегал, и после войны тоже. Не верите? А зря! Ради чего ему понадобилось в бытность министром обороны при Хрущеве в порядке эксперимента на Тоцком полигоне пропускать через зону поражения после ядерного взрыва целых пятьдесят шесть тысяч военнослужащих разных родов войск в качестве подопытных животных, чтобы посмотреть, как факторы ядерного поражения сказываются на войсках! Ну, что ж – сказались. В большей части случаев не мгновенно, но все равно убийственно. Из этих подопытных мало кто долго прожил. Зато любознательность людоеда была удовлетворена. Все это было известно издавна. Но вот о том, что великий или даже величайший маршал современности не только смело, мужественно и отважно бросал на убой свои войска (почему на убой? Да потому что минимум на четырнадцать миллионов наших боевых потерь немцы потратили не более трех миллионов своих жизней! это ли не постыдно!), но и сам мужественно дрожал за собственную шкуру и храбро защищал ее от близости более даровитых военных, создающих неудобный контраст для его дальнейшей карьеры, не щадя при этом не только самих полководцев, но и их армии! А если с кем-то так обойтись не удавалось, можно было отодвинуть кое-кого в сторону от уже подготовленного успеха, как например, он, подговорив Сталина, добился перевода маршала Рокоссовского с 1-го Белорусского фронта на 2-ой Белорусский фронт, когда тем была уже организована операция «Багратион», открывавшая путь на Берлин (при этом Жуков еще дополнительно ограбил и без того слабо обеспеченный 2-ой Белорусский фронт на правах заместителя верховного главнокомандующего, чтобы Рокоссовский уж никак не сумел бы «выпендриться», а тот все-таки ухитрился. Адмирал Николай Герасимович Кузнецов, несомненно виновный в глазах Жукова в том, что большинство первых городов –героев – Одесса, Ленинград, Севастополь – стойко держали оборону благодаря в первую очередь флоту, поэтому стал ему особенно ненавистен. Признать, что это было так, Жуков был органически неспособен – ведь это ощутимо «отщипывало» от него как от величайшего полководца часть ЕГО славы. Потому им была пущена в ход логическая инверсия – это флот слишком дорого обходился советской армии, а вовсе не флот был краеугольном бастионом, об который враг обламывал себе зубы. К его сожалению, до адмирала Кузнецова он добрался только после войны – но ведь добрался же! И почти сумел стереть в памяти потомков следы славной деятельности этого военного моряка и стратега. Чуть-чуть только не повезло – Николая Герасимовича все-таки после разжалования восстановили в высшем звании адмирала флота Советского Союза, но здоровью его эта жуковская акция обошлась очень дорого.